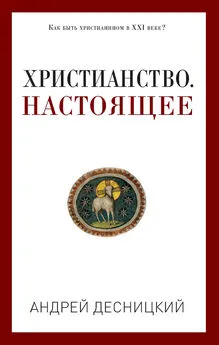Андрей Десницкий - Христианство. Настоящее
- Название:Христианство. Настоящее
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент РИПОЛ
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-386-09590-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Десницкий - Христианство. Настоящее краткое содержание
Андрей Сергеевич Десницкий – российский филолог-библеист, переводчик, писатель, публицист. Доктор наук, профессор РАН, сотрудник Института востоковедения РАН, автор десятка книг и множества публикаций, отец троих детей и дед троих внуков. Его основная специализация – библейский перевод, во многих проектах он участвовал как переводчик, редактор или консультант. Но, говоря о современных изданиях Библии на разных языках, естественно начать разговор и о жизни тех, кто ее читает, – христиан XXI века. Им и посвящена эта книга. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Христианство. Настоящее - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но это совсем не значит, что невозможен никакой другой экуменизм. Когда папа Франциск встречается с православными патриархами Варфоломеем и Кириллом, они не пытаются обсуждать Filioque , или непорочное зачатие Девы Марии, или примат римского папы (самые болезненные точки православно-католического диалога) – это всегда встречи двух пастырей, двух христиан, двух людей, но не двух институций.
Похожие встречи проходят и на самом базовом уровне в разных местах, например в монастырских общинах в Тэзе во Франции, в Бозе в Италии или в культурном центре «Покровские ворота» в Москве. Их базовый принцип – «мы разные и мы равные, нам есть, чем делиться друг с другом». Мы не будем притворяться, что нет между нами никаких разногласий, что православие и католицизм – совершенно одно и то же, или что одни из нас должны «дорасти» до уровня других. Но мы стараемся разглядеть друг в друге лучшее.
И это никак не исключает способности трезво проанализировать собственную традицию и разглядеть темные пятна в ней. Не к тому ли и призван христианин, чтобы сознавать свои грехи (в том числе и «корпоративные»), не приглядываясь к чужим?
Когда в 2005 году были изданы на русском языке дневники о. Александра Шмемана, русского священника, прожившего всю свою жизнь за Западе, – они произвели эффект разорвавшейся бомбы – разумеется, среди того узкого круга людей, кто их читал и принял всерьез. Впрочем, и те, кто не принял, сделали из дневников свой вывод: Шмеман, по сути, от православия под конец жизни отпал, только не успел или не пожелал оформить этот факт переходом в другую конфессию. Но его разочарование в историческом православии (а какое же бывает еще?) кажется полным и окончательным.
Вот, пожалуй, самые горькие из его слов: «…в Православии – историческом – начисто отсутствует сам критерий самокритики, сложившись как „православие“ против ересей, Запада, Востока, турков и т. д., – Православие пронизано комплексом самоутверждения, гипертрофией какого-то внутреннего „триумфализма“. Признать ошибки – это начать разрушать основы „истинной веры“. Трагизм православной истории видят всегда в торжестве внешнего зла: преследований, турецкого ига, измены интеллигенции, большевизма. Никогда – во „внутри“. И пока это так, то, по моему убеждению, никакое возрождение Православия невозможно». Здесь можно утешиться тем, что примерно так обстоят дела со всеми историческими религиями, это просто обычный архаический взгляд на вещи: мы всегда во всем правы, наши враги всегда нас преследуют.
Но Шмеман продолжает. «Главная же трудность здесь в том, что трагизм и падение по-настоящему не в грехах людей (этого не отрицают…), а укоренен, гнездится в тех явлениях, которые принято считать, в которые принято верить как именно в саму сущность Православия, его вечную ценность и истину. Это, во-первых, какое-то „бабье“ благочестие, пропитанное „умилением“ и „суеверием“ и потому абсолютно непромокаемое никакой культуре. Стихийная сила этого благочестия, которым можно жить как чем-то совершенно самодовлеющим, вне какого бы то ни было отношения ко Христу и к Евангелию, к миру, к жизни… Тут все слова „жижеют“, наполняются какой-то водою, перестают что-либо означать. Это „благочестие“ и есть то, что вернуло христианству „языческое“ измерение, растворило в религиозной чувственности. Оно и Христа мерит собою, делает Его символом самого себя… Это, во-вторых, гностический уклон самой веры, начавшийся уже у Отцов (приражение эллинизма) и расцветший в позднем богословии (западный интеллектуализм). Это, в-третьих, в этом благочестии и этом богословии укорененный дуализм, заменивший в церковном подходе к миру изначальный эсхатологизм. Это, в-четвертых, сдача Православия национализму в его худшей языческой (кровной) и якобинской (государственно-авторитарной негативной) сущности. Этот сплав и выдается за „чистое Православие“, и всякое отступление от него или хотя бы попытка в нем разобраться обличаются немедленно как „ересь“. Между тем этот именно сплав есть тот тупик, в который зашло историческое Православие».
К подобным выводам приходили после Шмемана многие люди, которых я знаю лично, и это для них, как правило, означало, в самом деле, отход от православной церкви. Они могли перейти в другую конфессию, или даже совсем другую религию (обычно буддизм), или вовсе разочароваться в религии. Наконец, существует и «внутренняя эмиграция», когда человек никуда формально не уходит, но церковной жизнью живет в минимальных объемах, принимая таинства как необходимые лекарства и сторонясь всего остального.
Иными словами, нам обещали, что православие содержит всю полноту Истины, но, сталкиваясь с реальностью православной жизни, мы видим, что в ней много темных пятен и провалов. Наблюдая их, мы какое-то время можем считать, что причиной им личные недостатки тех или иных людей, прежде всего нас самих, но вскоре видим, что идеального православия нет и никогда не было на этой земле, да и вряд ли можно ожидать его появления в будущем. Можно оставаться в неидеальном, конечно, но с полнотой Истины эта неидеальность как-то слабо сочетается, особенно если учесть, что со стандартной точки зрения все прочие христианские сообщества (не говоря уж о других религиях) пребывают в состоянии ереси или раскола по отношению к нам. То есть, чтобы стать настоящими христианами, они должны целиком и полностью уподобиться нам… но если уподобятся, то, судя по окружающей нас реальности, не станут лучше.
Есть, конечно, своеобразный выход в том, чтобы сказать: это испортилось нынешнее «мировое православие» (совокупность поместных церквей, признающих друг друга), подлинная православная традиция сохраняется в подполье, у «истинно православных». Но когда спрашиваешь у приверженцев этой точки зрения, кто же, собственно, составляет это истинное православие, ответ обычно оказывается коротким: я и узкий круг моих друзей и единомышленников (к тому же круг этот оказывается переменчивым). На Вселенскую церковь мало похоже, если честно.
Наконец, можно принять так называемую «теорию ветвей»: христианство бесконечно разнообразно, каждая из его разновидностей – ветвь, произрастающая на едином стволе, среди них нет более или менее верных. Но такой подход означает полнейшую относительность любых суждений, ведь и догмат о Троице разделяется не всеми, кто принимает Евангелие. Такой подход, по сути, предлагает всякому, кто ищет Истины, вести себя наподобие покупателя в супермаркете: выбирать любые товары в любой комбинации, руководствуясь собственным вкусом и желаниями, – и кстати, зачем ограничиваться только христианством? Но такой супермаркет тоже мало похож на Апостольскую церковь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: