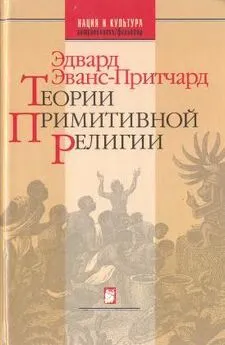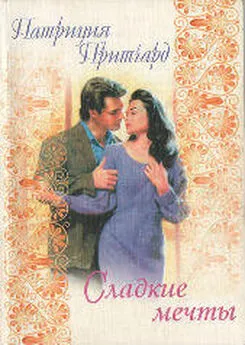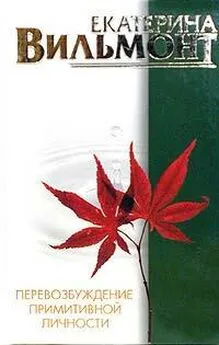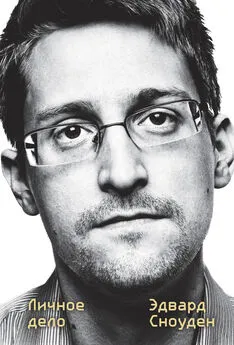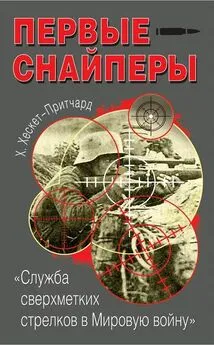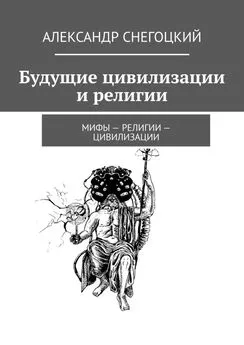Эдвард Эванс-Притчард - Теории примитивной религии
- Название:Теории примитивной религии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Объединенное гуманитарное издательство
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-94282-174-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдвард Эванс-Притчард - Теории примитивной религии краткое содержание
В книге выдающегося британского антрополога Э. Эванса-Притчарда (1902–1973) рассматривается история антропологических теорий о происхождении, сути и ранних этапах развития религии. Дается широкий обзор работ европейских мыслителей (в основном конца XIX — первой трети XX в.), причем не только антропологов, но и философов, историков античности, филологов и социологов.
Книга будет интересна широкому кругу читателей и весьма полезна как учебное пособие для студентов и преподавателей гуманитарных вузов и гимназий.
http://fb2.traumlibrary.net
Теории примитивной религии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Все это очень хорошо соответствовало колониальным и другим интересам, и некоторые были готовы утверждать, что к американским этнологам нужно относиться с некоторым недоверием, поскольку они искали оправдание рабству; и то же самое в некоторой степени справедливо в отношении тех, кто был занят поиском связующего звена между обезьяной и человеком.
Излишне говорить, что предполагалось, будто первобытные народы должны иметь самые грубые религиозные представления, и у нас была возможность обозреть самые различные пути, которыми будто бы они достигли этих представлений. Поскольку это «надежно установлено», то далее можно продемонстрировать в снисходительной форме, что если примитивные народы, даже охотники-собиратели, имеют богов с высокими нравственными качествами, то они заимствовали идею, или только само слово без понимания его значения, у более развитых культур, у миссионеров, торговцев и прочих. Тайлор установил, что это утверждение почти наверняка неверно, а Э. Лэнг показал это в отношении австралийских аборигенов [Tylor 1892: 293 и далее]. Сидни Хартленд был такого же мнения, что и Тайлор [Hartland 1898:302]. Дорман также, используя немногочисленные доказательства, весьма категорично заявлял об американских индейцах: «До открытия Америки европейцами там не наблюдалось никакого приближения к монотеизму…» [Dorman 1881: 15]. Современные исследования показали, что подобным утверждениям вряд ли можно верить; но в то время было более или менее аксиомой времени, что чем проще технология и социальная структура, тем менее развиты религиозные, да, собственно говоря, и любые другие представления; Эйвбери, полный самоуверенности, пошел так далеко, что заявил, что среди австралийцев, тасманийцев, андаманцев, эскимосов, индейцев Северной и Южной Америки, некоторых полинезийцев, по крайней мере, некоторых жителей Каролинских островов, готтентотов, некоторых кафров Южной Африки, феллахов Центральной Африки, бамбара Западной Африки и жителей острова Дамуд нет ни веры в богов, ни какого-либо культа, и, следовательно, по его определению, — нет и религии [Avebury 1911: гл. 5, 6]. Известный миссионер Моффат оправдывал себя в том, что не описывал манеры и обычаи бечуанов, тем, что делать это «было бы ни поучительно, ни информативно» [Moffat 1842: 249], поскольку Сатана стер «всякие следы религиозных представлений из сознания бечуанов, готтентотов и бушменов»[Moffat 1842: 244]. В эти годы было вполне обычным отрицать, что наименее развитые народы имеют вообще какую-либо религию. Так думал Фрэзер. Как мы отмечали ранее, даже ив 1928 году мы обнаруживаем Чарльза Сингера, утверждающего, что дикари не имеют чего-либо похожего на то, что может быть названо религиозной системой, так как их практики и верования совершенно несвязны и не согласованы [Singer 1928: 7]. Я предполагаю, что он имел в виду, что дикари не имеют философии религии или теологической апологетики. Первобытные верования, возможно, в самом деле неясны и не определены, но этим авторам, похоже, не приходит в голову, что таким же образом обстоит дело и с религиозными верованиями обыкновенных людей в нашем собственном обществе; и как еще может быть по-другому, если религия имеет дело с существами, которые не могут быть непосредственно восприняты чувствами и полностью поняты разумом? И если их мифы иногда кажутся смешными, то они не более нелепы, чем такие же древнегреческие или индийские, столь обожаемые классическими учеными и востоковедами, а их боги, надо признать, гораздо менее омерзительны.
Взгляды, которые я описал, сегодня неприемлемы. О том, подтверждались ли они информацией, доступной в то время, я не берусь судить и не собираюсь проводить утомительные литературные исследования, необходимые для того, чтобы составить об этом свое мнение. Моя задача — экспозиционная, но я должен также высказаться и по поводу того, что кажется мне фундаментальной слабостью в интерпретациях «первобытной» религии, которые в свое время казались убедительными. Первая ошибка была в построении их на основе эволюционных предположений, к которым не могут быть добавлены этнографические доказательства. Вторая была в том, что, кроме того, что это были теории временной и стадиальной последовательности, они были также и теориями психологических истоков; и даже про те из них, которые мы обозначили как социологические теории, можно было бы сказать, что они основаны в конечном счете на психологических предположениях типа «если бы я был лошадью». Они едва ли могли быть иными вследствие того, что создавались кабинетными антропологами, то есть людьми, чей опыт ограничен их собственной культурой и обществом, а внутри этого общества — небольшим классом и внутри этого класса — еще меньшей группой интеллектуалов. Я уверен, что такие люди, как Эйвбери, Фрэзер и Маретт, имели слабое представление о том, как обычный английский рабочий чувствует и мыслит; не удивительно, что они имели минимальное представление и о том, как чувствовали и мыслили «дикари», которых они никогда не знали. Как мы уже видели, их объяснения «первобытной» религии выведены интроспективно. Если бы ученый сам верил в то, во что верят дикари, или осуществлял то, что они осуществляют, то он руководствовался определенной линией аргументации, или побуждался некоторыми эмоциональными состояниями, или поглощался психологией толпы, или запутывался в сетях коллективных или мистических представлений.
Как часто нас предостерегали от попыток интерпретировать мышление древних или «первобытных» народов в терминах нашей собственной психологии, которая была сформулирована совокупностью культурных институтов, значительно отличающихся от туземных, — Адамом Фергюсоном, сэром Генри Мэйном и другими, включая Леви-Брюля, который в этом отношении может быть отмечен как наиболее объективный из всех авторов, писавших о первобытном складе ума, и чьи работы мы уже рассмотрели.
Немецкие ученые, — писал Баховен Моргану, — предлагают сделать древность понятной путем соизмерения ее с идеями, популярными ныне. В реалиях прошлого они видят только самих себя. Проникнуть в структуру мышления, отличного от нашего, — дело, требующее отчаянной смелости [Resek 1960: 136].
Это действительно отважная работа, особенно когда мы имеем дело с такими сложными предметами, как «первобытная» магия и религия, работая с которыми, вообще легко, переводя понятия «простых» народов, переселить наше мышление в их. Если правда то, как говорили Зелигманы, что в вопросах магии черные и белые народы воспринимают друг друга при полном взаимном непонимании [Seligman, Seligman 1932: 25], то идеи «первобытного» человека об этом предмете подвержены большой опасности искажения, особенно со стороны тех, кто никогда не видел «примитивного» человека, и теми, кто считает магию бесполезным предрассудком. Этот феномен в таком случае имеет тенденцию рассматриваться путем воображаемой постановки самих себя в условия жизни примитивного человека.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: