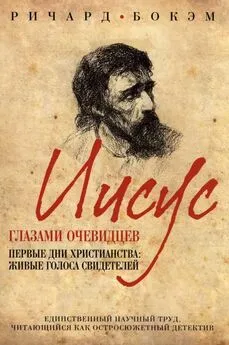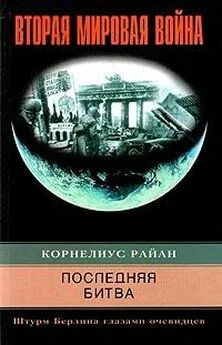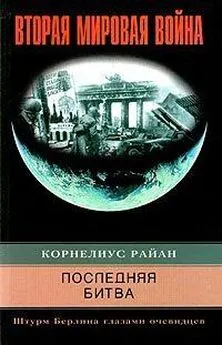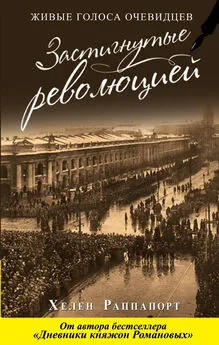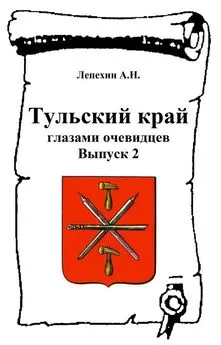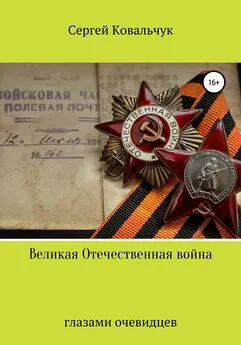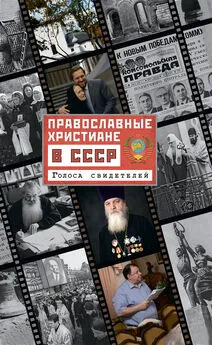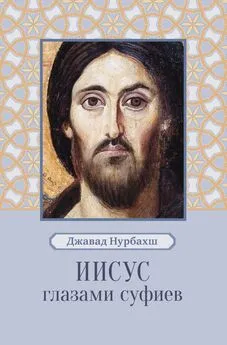Ричард Бокэм - Иисус глазами очевидцев Первые дни христианства: живые голоса свидетелей
- Название:Иисус глазами очевидцев Первые дни христианства: живые голоса свидетелей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2011
- Город:М.
- ISBN:978–5–699–46401–2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ричард Бокэм - Иисус глазами очевидцев Первые дни христианства: живые голоса свидетелей краткое содержание
Эта книга — удивительное расследование всемирно известного ученого, которое проливает свет на жизнь Иисуса и происхождение Евангелий. Сюда вошли результаты новейших исследований древней культуры, человеческого мозга, механизмов памяти. Автор объясняет, как получилось так, что слова и поступки Иисуса не были забыты и достоверно известны всему миру и теперь, и приоткрывает завесу над одной из величайших тайн Библии: тайной личности любимого ученика Иисуса, загадочного автора Четвертого Евангелия. Впервые на русском языке главный труд одного из самых авторитетных специалистов по Новому Завету.
Впервые:
Живые свидетельства всех непосредственных участников евангельских событий и древних церковных историков и апологетов, проанализированные одним из самых авторитетных исследователей Библии.
Результаты новейших исследований древней культуры, человеческого мозга, механизмов памяти и жизни первого христианского поколения.
Уникальная реконструкция цепочек, по которым устно передавались рассказы о словах и поступках Иисуса от человека к человеку.
Тайна личности анонимного любимого ученика Иисуса, загадочного автора Четвертого Евангелия.
Ричард Бокэм — специалист по Новому–Завету, профессор Университета Сент–Эндрюс ( Шотландия ), член Британской академии и Королевского научного общества Эдинбурга.
Иисус глазами очевидцев Первые дни христианства: живые голоса свидетелей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Эпилог сравнивает и противопоставляет друг другу роли Любимого Ученика и Петра — сначала в рассказе о чудесном улове рыбы, затем в беседе Иисуса с Петром. Любимый Ученик, со своим: «Это Господь!» (21:7) выступает в роли свидетеля; Петр, закидывающий сеть (21:11), выполняет более серьезную задачу. Далее из его беседы с Иисусом мы узнаем, что Петру предназначена активная роль пастыря, который будет пасти агнцев и умрет за них (21:15–19). Судьба Любимого Ученика обрисовывается совсем иначе и более загадочно: «Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду…» (21:22, 23). Это изречение приводится и обсуждается не только для того, чтобы исправить его частое недопонимание, точнее, чересчур буквальное понимание (21:23). Евангелие Любимого Ученика не может закончиться «бытовым» откровением о том, что, вопреки ожиданиям, этот ученик не умрет. В речении Иисуса сокрыт — так характерно для трудов Иоанна — второй смысл, который становится ясен из немедленно следующего за этим заключения (21:24–25). Любимый Ученик, быть может, не доживет до второго пришествия лично — однако до самого второго пришествия он будет исполнять задачу, которую возложил на него Иисус: задачу свидетеля, записавшего свое свидетельство, дабы оно звучало вечно [949]. Таким образом, Евангелие не сообщает о том, что его автор — Любимый Ученик, до тех пор, пока это сообщение не откроет тайное значение загадочных слов Иисуса. Написание Евангелия этим учеником оправдано и освящено тем, что стало исполнением задачи, возложенной на него самим Иисусом.
Именно в этот момент читатели могут припомнить единственный предшествующий стих в этом Евангелии, где говорится об одном конкретном свидетеле некоего евангельского события: «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили» (19:35). Эта фраза предвосхищает обе части заключения: «дабы вы поверили» — перекликается, и словесно, и понятийно, с первой частью, а то, что говорится об одном свидетеле и об истинности его свидетельства — со второй. Стоит, однако, отметить, что вся полнота сообщения приберегается до конца Евангелия. В главе 19 мы еще не знаем, что свидетель записал свое свидетельство, и кто он — тоже не ясно. Читатели делятся на тех, кто полагает, что это Любимый Ученик, ибо, как мы читаем несколькими стихами раньше (19:26–27), он, единственный из всех учеников–мужчин, стоял у креста; и тех, кто считает, что это не мог быть Любимый Ученик, поскольку тогда об этом было бы сказано более определенно [950]. Тождество этой фигуры с Любимым Учеником намеренно оставлено под вопросом [951]. Однозначным оно становится, только когда читатель доходит до стиха 21:24, по своему языку явно перекликающемуся с 19:35. Только здесь мы можем узнать, что свидетельство, стоящее за этим Евангелием, есть свидетельство Любимого Ученика, который его и написал.
Если этот аргумент убедителен — невозможно утверждать, что приписывание авторства Евангелия Любимого Ученику есть позднее дополнение к Евангелию. Это Евангелие, с его Эпилогом и двухступенчатым завершением, композиционно построено так, чтобы причастность Любимого Ученика к его созданию стала очевидной лишь в самом конце. Это откровение дает читателю возможность ретроспективно представить личность Любимого Ученика, как явно, так и скрыто присутствовавшего на протяжении всего рассказа, — и убедиться, что он в самом деле особенно хорошо подходит на роль свидетеля Иисуса и автора Евангелия. О том, как и почему автор столь тщательно скрывает сведения об авторстве Евангелия вплоть до последних его строк, мы поговорим в следующей главе.
Кто «знает» в Ин 21:24?
В отрывке, открывающем авторство Любимого Ученика, остается еще одна загадка: «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его» (21:24). Кто «знает, что истинно свидетельство его»? От чьего лица это говорится? Здесь есть четыре основные возможности. Во–первых, речь может идти о читателях вместе с автором (Любимым Учеником): «все мы знаем, что это свидетельство истинно». Но это маловероятно, поскольку первые читатели или слушатели Евангелия едва ли могли это знать. Наиболее распространенное мнение — речь идет о круге наставников или старцев, которые прибавили к Евангелию свое свидетельство, указав на личность автора, и дали ему «рекомендацию» [952]. Однако и это едва ли возможно, если, как я уже показал, заключительные строки Евангелия (21:24–25) неотъемлемо принадлежат оригинальному авторскому замыслу. Кроме того, трудно понять, какое значение могли иметь заверения в ценности свидетельства Любимого Ученика из уст людей, которые сами себя не называют и никак не дают читателю понять, от кого исходит это утверждение [953].
В–третьих, множественное число может относиться к кругу лидеров или свидетелей, к которому Любимый Ученик причисляет и себя [954]. Чередование третьего лица, относящегося к Любимому Ученику, и первого лица множественного числа («знаем») — здесь не проблема. Δο сих пор об этом ученике говорилось в третьем лице: стандартная практика античных авторов, делавших себя героями собственного повествования. Однако в этом стихе автору приходится перейти от третьего лица повествования к первому лицу непосредственного обращения к читателям: это необходимо, когда он, так сказать, выходит из рамок повествования и раскрывает свое авторство.
Таким образом, третий вариант вполне возможен, особенно если рассматривать этот стих изолированно; и все же наиболее предпочтительной представляется мне четвертая и последняя возможность. Та, что множественное число здесь — не истинное множественное, а замена единственного [955]. На это можно возразить, что тогда использования множественного числа вместо единственного следовало бы ожидать и в стихе 25; однако известно, что грекоязычные античные авторы, говоря о себе, легко переходили от единственного числа к множественному и обратно. Один из множества таких примеров, особенно интересный, поскольку он находится в заключении трактата, мы встречаем в сочинении Дионисия Галикарнасского «Демосфен» (§ 58), чьи заключительные три предложения звучат так:
Я мог бы привести и примеры сказанного, однако боюсь наскучить — особенно тебе, своему адресату. Так что на этом, дорогой мой Аммей, мы закончим рассуждения о стиле Демосфена. Если сохранит нас бог, в будущем представим тебе следующее сочинение, более пространно и подробно трактующее о сказанном предмете [956].
Стивен Ашер, переводчик издания Лоэба, переводит множественное число в последних двух фразах английским единственным числом — несомненно, потому, что такой переход от единственного к множественному на англоязычный слух звучит непривычно и странно. Это показывает, что нам стоит проявлять осторожность и не судить о значении такого перехода, опираясь на английские стандарты. В следующем разделе мы приведем еще один пример такого же перехода в греческом тексте — на этот раз в тексте самого Иоанна.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: