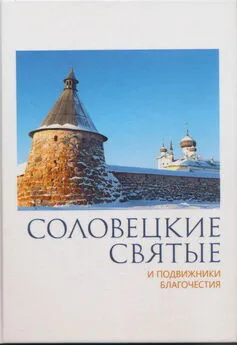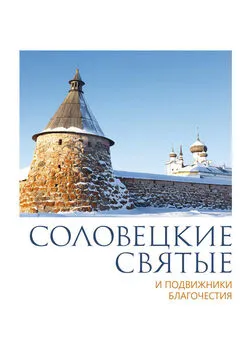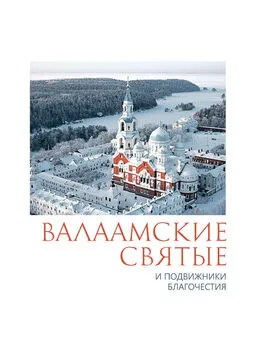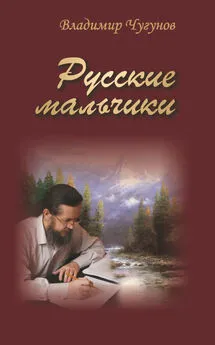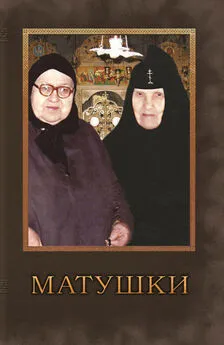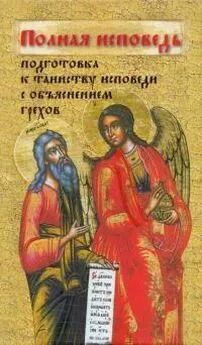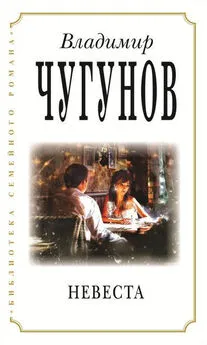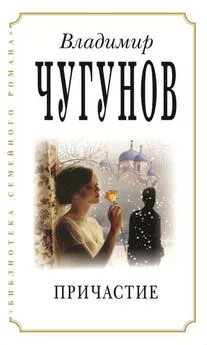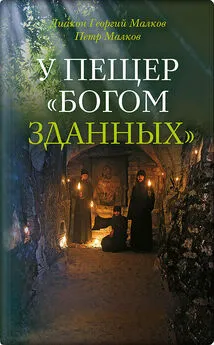Владимир Чугунов - Авва. Очерки о святых и подвижниках благочестия
- Название:Авва. Очерки о святых и подвижниках благочестия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Родное пепелище»0a919b56-95ea-11e6-b088-0cc47a52085c
- Год:2012
- Город:Нижний Новгород
- ISBN:978-5-98948-047-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Чугунов - Авва. Очерки о святых и подвижниках благочестия краткое содержание
Чугунов Владимир Аркадьевич родился в 1954 году в Нижнем Новгороде, служил в ГСВГ (ГДР), работал на Горьковском автозаводе, Горьковском заводе аппаратуры связи им. Попова, старателем в Иркутской, Амурской, Кемеровской областях, Алтайском крае. Пас коров, работал водителем в сельском хозяйстве, пожарником. Играл в вокально-инструментальном ансамбле, гастролировал. Всё это нашло отражение в творчестве писателя. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Член Союза писателей России. Автор книг прозы: «Русские мальчики», «Мечтатель», «Молодые», «Невеста», «Причастие», «Плач Адама», «Наши любимые», «Запущенный сад», «Буря», «Провинциальный апокалипсис» и других. Произведения Владимира Чугунова переведены на иностранные языки. Автор постоянно принимает участие в Международных книжных ярмарках Европы и России.
Лауреат Горьковской литературной премии, Всероссийской литературной премии им. Александра Невского (Санкт-Петербург), обладатель Грамоты Патриаршей литературной премии, финалист «Бунинской литературной премии». Неоднократный лонглистер литературной премии «Ясная Поляна», «Золотой Дельвиг» и других.
Аввами на Востоке называли духовных отцов (авва – отец, в переводе с греческого). Эта книга включает в себя три очерка о «русских аввах» – Святителе Игнатии (Брянчанинове), праведном Иоанне Кронштадтском, профессоре догматического богословия Парижского Православного Богословского института протоиерее Сергии Булгакове, – оказавших огромнейшее влияние своим учением, своею праведностью, своею любовью на многих и многих своих современников. Образ жизни и учение этих святых и подвижников благочестия не утратили своего значения и по сей день, и, без всякого сомнения, будут руководствовать к спасению последующие поколения. Эта книга вынашивалась автором на протяжении тридцати лет. Это и радость, и боль его сердца, и в то же время, завет и пастырское слово любви ко всем своим детям по плоти и по духу.
Авва. Очерки о святых и подвижниках благочестия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сделаю здесь небольшое отступление, чтобы сказать, как и когда появилось у меня это «шестое чувство».
6
«Всю свою молодость и сознательную жизнь до первой революции я был непримиримым врагом самодержавия, я его ненавидел, презирал, гнушался им, как самым бессмысленным, жестоким пережитком истории. Самодержавие – это полиция, жандармы, тюрьма, ссылка, придворные, ни для кого не нужные и не интересные приёмы и парады и убийственная жестокость к русскому народу. Всю гамму интеллигентской непримиримости к самодержавию я изведал и пережил. В студенчестве я мечтал о цареубийстве (хотя, разумеется, меня начинало трясти уже при мысли об исполнении акта), когда я вступил на путь религии, самодержавие казалось мне главнейшим религиозным врагом, с которым связана основная ложь нашей церковности. И в своих мыслях и чувствах я не находил никакого подхода к тому, чтобы можно было мистически познать и признать самодержавие.
В подготовке революции 1905 года участвовал и я, как деятель Союза Освобождения, и я хотел так, как хотела и хочет вся интеллигенция, с которой я чувствовал себя в разрыве в вопросах веры, но не политики. В Киеве, где я профессорствовал эти годы (1901–1906), я занимал вполне определённую политическую позицию.
И так шло до 17 октября 1905 года.
Этот день я встретил с энтузиазмом почти обморочным, я сказал студентам совершенно безумную по экзальтации речь (из которой помню только первые слова: «века сходятся с веками») и из аудитории Киевского политехникума мы отправились на площадь («освобождать заключённых борцов»). Все украсились красными лоскутками в петлицах, и я тогда надел на себя красную розетку, причём, делая это, я чувствовал, что совершаю какой-то мистический акт, принимаю род посвящения.
На площади я почувствовал совершенно явственно влияние антихристова духа: речи ораторов, революционная наглость, которая бросилась прежде всего срывать гербы и флаги, – словом, что-то чужое, холодное и смертоносное так оледенило мне сердце, что, придя домой, я бросил свою красную розетку в ватерклозет. А в Евангелии, которое открыл для священногадания, прочёл: сей род (какой род, я тогда ещё не умел распознать) изгоняется молитвой и постом. Но тогда для меня ясно было присутствие сего рода, от которого вечером того же дня начались в Киеве погромы, только в том чёрном стане, но не в этом с красной петлицей.
Однако развернувшаяся картина революции очень скоро показала, что представляет собою революция как духовная сущность. И я уже с этого времени отделился от революции и отгородился от неё утопической и наивной мыслью о создании христианского освободительного движения, для чего нужно создать «Союз христианской политики» (ранний прототип «живой церкви»).
Я постиг мертвящую сущность революции, по крайней мере русской, как воинствующего безбожия и нигилизма. До сих пор я кое-как старался зажимать себе нос, чтобы не слышать этого трупного запаха. С революцией было нам не по пути, потому что, пока Россией правила чёрная сотня, казалось оправданным бытие красной сотни.
Постепенно, по мере того как выявлялась духовная сущность русской революции в истории 1905–1907 гг., для меня становилась невозможна всякая связь с ней. Становилось очевидно, что революция губит и погубит Россию.
Но не менее ясно было для меня тогда, что её не менее верно губит и самоубийца на престоле, первый деятель революции, Николай II.
И из этого рокового кольца революции, в котором боговенчанный монарх в непостижимом ослеплении и человеческом слабоволии подавал руку революции, казалось, не было выхода. Слишком страшно было думать всерьёз и говорить о гибели России, тем более что всё ещё оставалась надежда найти внереволюционный, свободный от красной и чёрной сотни культурный центр, опираясь на который можно было бы освободить царя от революции (тогда мы ещё не знали, что революция имеет неотразимую силу на него через ближайшего ему человека – любящую, преданную жену, ибо царица Александра оказалась в полном смысле слова роковой революционеркой, что она дала революции проникнуть во святая святых царя и утвердиться во дворце).
Культурный консерватизм, почвенность, верность преданию, соединяющаяся со способностью к развитию, – таково было это задание, которое и на самом деле оказалось бы спасительным в истории, если бы было выполнено. Впрочем, про себя лично скажу, что, хотя в бытовых и практических отношениях я шёл рука об руку с этим культурным консерватизмом (как он ни был слаб в России), исповедовал почвенность, однако в глубине души никогда не мог бы слиться с этим слоем, который у нас получил в идеологии наиболее яркое выражение в славянофильстве (с осколками славянофильства: Д. Ф. Самариным, И. В. Мансуровым, М. А. Новоселовым, В. А. Кожевниковым и др. я дружил и лично). Меня разделяло общее ощущение мира и истории, какой-то внутренний апокалипсис, однажды и навсегда воспринятый душой, как самое интимное обетование и мечта.
Русские почвенники были культурные консерваторы, хранители и чтители священного предания, они были живым отрицанием нигилизма, но они не были его преодолением, не были потому, что сами они были, в сущности, духовно сыты и никуда не порывались души их, никуда не стремились. Они жили прошлым, если только не в прошлом. Их истина была в том, что прошлое есть настоящее, но настоящее-то не есть только прошлое, но оно есть и будущее, и притом не только будущее, которое есть выявление прошлого чрез настоящее в будущем, т. е. только прошлое, а будущее, как новое рождение. «Се Аз творю все новое». К этому новому рвалась и рвётся, его знает душа.
И это религиозно-революционное, апокалипсическое ощущение «прерывности» (о чём любил философствовать рано ушедший друг наш В.Ф. Эрн) роднит меня неразрывно с революцией, даже – страшно сказать – с русским большевизмом.
Отрицая всеми силами души революционность как мировоззрение и программу, я остаюсь и, вероятно, навсегда останусь «революционером» в смысле мироощущения (да разве такими «революционерами» не были первохристиане, ожидавшие скорого мирового пожара). Но эта «революционность» в русской душе так неразделимо соединилась с «гадаринской бесноватостью», что с национально-государственной и культурной точки зрения она может быть только самоубийственной.
К чему я об этом говорю здесь, в воспоминаниях?
Да потому, что понимание этого со всею ясностью у меня явилось уже в 1906 году и определило собою и мой образ действий, и мировоззрение.
Дореволюционные безумства и наглость 1905 года, совет рабочих депутатов, экспроприации, убийства и, как ответ на это, военно-полевые суды, с жестокостями, с которыми было так же невозможно мириться, как с низостями революции. И, казалось, нет выхода.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: