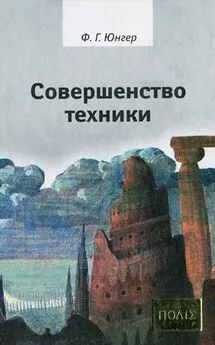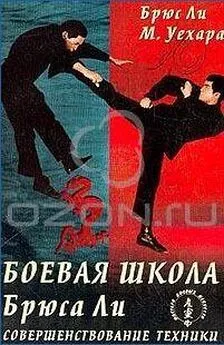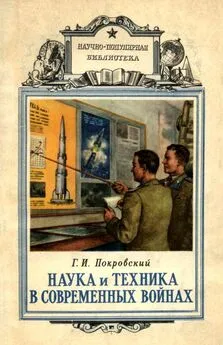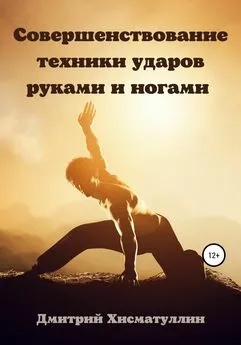Фридрих Георг Юнгер - Совершенство техники
- Название:Совершенство техники
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Владимир Даль»
- Год:2002
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-93615-014-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фридрих Георг Юнгер - Совершенство техники краткое содержание
Совершенство техники - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мыслить социально означает в наше время поддерживать веру в аппаратуру и организацию. Таким образом, человек, самоуничижаясь, выражает подобострастное почтение к идеологии технического прогресса. Потребность в надежности может вызвать к жизни мощные организации, но эти организации не в силах дать человеку настоящую уверенность в своей безопасности. Не только потому, что он сам должен ею обладать или сам ее обеспечить, и не только потому, что он не может дожидаться, пока кто-то сделает это за него. Не только потому, что эти организации лишь распределяют крохи бедности, то есть распространяют бедность. Сами по себе они уже есть признак бедности, бедственности и нищеты, и подобно всем организациям, вызванным нехваткой, разрастаются все более пышным цветом по мере того, как убывает богатство.
45
Если мы обратимся теперь к прошлому и сопоставим мышление XVII и XIX веков, то сразу же должны будем отметить, насколько различной оказывается в том и в другом позиция философского созерцателя и отправная точка его размышлений. Во всех философских системах XVII века мы сталкиваемся с представлением о равновесии и сбалансированности. Повсюду мы встречаемся с понятиями гармонии и способности к совершенству: в метафизике, в теории познания, этике и педагогике. Ими целиком проникнута философия Лейбница и Вольфа. Поэтому мы можем назвать всю эту философию в целом связующей и опосредующей, причем такого образа мышления придерживались в то время даже абсолютные монархи, такова была тогда философия государственной власти. В учении Лейбница о монадах закон механически действующей причинности еще не выходил из-под контроля, так как над ним существовали высшие инстанции, не детерминируемые каузальностью. Эти идеи доказали свою живучесть. Даже в философии Канта с ее открытой враждебностью по отношению к лейбницевско-вольфианскому учению еще присутствует в качестве основополагающей идеи понятие гармонического взаимодействия всех возможностей человека, представление о предустановленной гармонии разума. От этого представления исходит свет, отблеск которого лежит на его философии, несмотря на ее скуповатую холодность и ученое спокойствие. Разум, рассудок, способность суждения — вот из чего исходит Кант, делая объектом своих гносеологических исследований область и границы их применения. Философия же XIX века все больше склоняется к волюнтаризму.
Та жесткая насильственность, не дающая чувства удовлетворения из-за своей нетерпимости, с которой мы сталкиваемся в философии Фихте, и то же самое отсутствие платонической мягкости и враждебный подход к природе проявятся затем у Гегеля. Система Гегеля еще жестче, в ней еще больше принуждения и насильственности. Когда Шеллинг, возражая против системы Гегеля, говорит, что она исходит из чистого бытия, из чистого становления, а это бытие, это становление представляет собой «совершенно пустую идею, то есть идею, в которой нет движения мысли», то в этом возражении содержится упрек в произвольном выборе отправной точки. «Принцип движения он вынужден был сохранить, так как без него не сдвинешься с места, но он изменил его субъект. Субъектом этим, как уже сказано, стало логическое понятие. Поскольку движение приписывалось логическому понятию, он назвал это движение диалектическим, а поскольку в прежней системе движение не было диалектическим в этом смысле, то он объявил, что в этой системе, которой он целиком и полностью был обязан принципом своего метода, то есть возможностью построить систему на свой собственный лад, метод вообще отсутствует; наипростейший способ приписать себе заслугу изобретения оного! Между тем логическое самодвижение (каково понятие!) служило, как и можно было предвидеть, верой и правдой, покуда система не выходила за рамки чистой логики; едва она, решившись на этот тяжкий подвиг, делает шаг в область действительности, как нить диалектического движения тотчас же окончательно обрывается, тут поневоле требуется вторая гипотеза, а именно будто бы идее — неведомо по какой причине, разве что ради удовольствия развеять скуку своего чисто логического существования, — взбрела вдруг такая прихоть распасться на свои моменты, и с этого, дескать, берет свое начало природа» ( Шеллинг. Предисловие к философскому сочинению г-на Виктора Кузена, 1834). В этом и в других высказываниях мы видим столкновение учения Шеллинга о потенциях с гегелевской диалектикой. Критика Шеллингом гегелевской системы, которую можно проследить и в его мюнхенских лекциях «К истории новейшей философии», показывает, что он ощущал новизну гегелевской диалектики, однако не объясняет причины того огромного влияния, которое приобрела гегелевская система, — влияния, которое проистекало из того самого гегелевского понятия движения, отвергаемого Шеллингом как незаконно введенное. В этом понятии движения и кроется источник силы гегелевской системы, в нем заложены рычаги, которыми все приводится в движение, как это доказывает тот факт, что из ее арсенала взято оружие диаметрально противоположных и даже враждующих друг с другом философских направлений. Метод самодвижущегося понятия, обладая универсальной применимостью, остается, правда, невыясненным, пока мы не учтем его историчность и не увидим, как он может быть применен к истории, но поняв это однажды, мы обнаружим его радикально действенный характер, и тут же выяснится, что сам метод как таковой уже обусловлен определенным, совершающимся на наших глазах историческим процессом. «Тайна гегелевской диалектики» носит исторический характер; возможность ее применения в религиозной, политической, социальной, экономической сфере проясняет присущий ей историзм. Если наука представляет собой по Гегелю «понятую историю, память и кладбище мирового духа, пьющего напиток бессмертия из черепа — этой чаши потустороннего царства», то этот варварский образ, странно схожий с обликом индийского божества, украшенного ожерельями из черепов и пьющего из чаши, сделанной из человеческого черепа, показывает нам, каким путем движется человеческое сознание. В нем выражается идея, что «внутренним ядром природы является мысль, обретающая бытие только в человеческом сознании».
Но как возникает эта мысль и это движение, оставляющее после себя одни только кости? Возникает ли она потому, что из «инвентаря чистого разума», составленного Кантом, была изъята вещь в себе? Но это уже было сделано стараниями Фихте, выведение же всяческого познания из способности к познанию, превратившейся теперь в чистый разум, и учение о необходимых этапах его поступательного развития через идею, природу, дух является заслугой Гегеля. Разум как единственная субстанция, панлогизм, превратившийся в субстанцию, возводится теперь в ранг субъекта, становится духом, причем абсолютным духом. Логике приходится неимоверно расширить свои границы, потому что когда разум включает в себя все сущее, а вне разума ничего не существует, то все, чем раньше занималась метафизика и онтология, неизбежно должно было перейти в ведение логики. Каменные скрижали категорий и форм суждения рассыпались в прах, так как категории и формы суждения оказываются всего лишь методом того же необходимого движения, в ходе которого идея совершает свое развитие. Диалектический метод с его переходами в противоположность, цепочками антитез, начинающимися с пустого бытия, которое равнозначно понятию «ничто», возвращение метода после завершения своей работы к исходной точке превращают весь процесс в целом в круговращение. Тот, кто привык мысленно следить за общей картиной, без труда заметит, что здесь мы имеем дело с ранним прообразом вечного возвращения, представляющего собой кульминацию философии Ницше, для которого, кстати, характерен состоявшийся в поздней период поворот от Шопенгауэра к Гегелю. Между тем для Гегеля этот процесс имеет однократный (уникальный) характер, он ведет к «снятию» «только внешнего поверхностного слоя, а не подлинной сущности мира». Подлинной же сущностью мира «является бытие понятия как такового, и, таким образом, сам мир есть идея». Но это всевластие идеи достигается за счет крайнего разжижения содержания понятия субстанции. Произвольность в выборе отправной точки, которую Шеллинг ставит в упрек гегелевской системе, повторяется в произвольном завершении, ибо весь процесс начавшийся в голове понявшего его и продумавшего философа, там же и заканчивается, в ней он достигает точки абсолютного знания, и за эти пределы не выходит в своем развитии. Описание этого процесса является задачей феноменологии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: