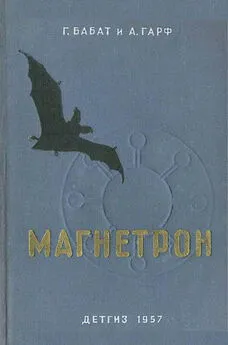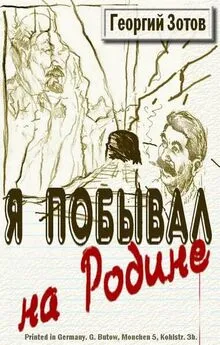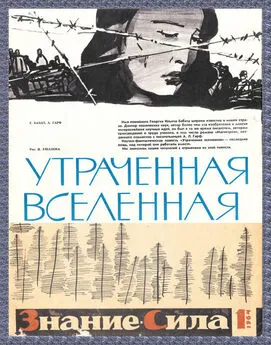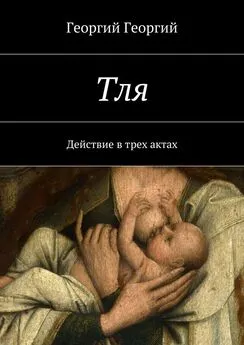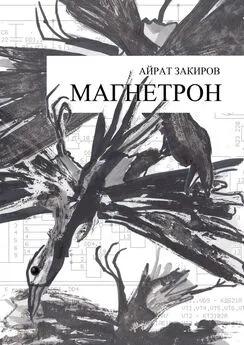Георгий Бабат - Магнетрон
- Название:Магнетрон
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Детгиз
- Год:1957
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Бабат - Магнетрон краткое содержание
Магнетрон, о котором идет речь в данной книге, — это прибор размером с кулак. Его медная оболочка заключает в себе разреженное пространство, где с огромной скоростью движутся электронные вихри. Чтобы организовать это вихревое движение электронов, прибор помещают между полюсами сильного магнита или электромагнита. Отсюда название — магнетрон. Этот прибор вырабатывает очень короткие — сантиметровые — радиоволны.
Сантиметровые волны могут пройти сквозь туман, облака, дымовую завесу. При помощи таких волн можно в любую погоду и ночью обнаружить объект, удаленный от места наблюдения на десятки километров; можно очень точно измерить расстояние до этого объекта, определить его местоположение. Место по латыни — «локус». Определение местоположения отдаленных предметов при помощи радиоволн называется радиолокацией.
Радиолокация имела важное значение для многих наземных, морских и воздушных сражений во время Отечественной войны 1941–1945 годов. Мы хотим здесь рассказать об одном из этапов развития радиолокационной техники в период 1934–1935 годов.
Работая, над этой книгой, мы пользовались, помимо собственных воспоминаний, различными литературными источниками: комплектами советских и зарубежных технических журналов, рядом советских и зарубежных монографий, посвященных магнетронам и другим вопросам, затронутым в нашей книге.
Однако наша работа ни в коей мере не является исчерпывающей историей магнетрона. Мы ограничили себя рассказом только об узком круге тесно связанных между собой лиц. Это отнюдь не умаляет значения многих других исследований, как у нас в Союзе, так и за рубежом.
Магнетрон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Все те отдельные разрозненные факты, которые благодаря прилежному чтению стали известны Веснину, говорили о том, что на заре радиосвязи радисты неустанно работали над тем, чтобы увеличить дальность беспроволочной передачи. А для этого строились всё более мощные передатчики, все выше поднимались антенны. При простой схеме передатчика удлинение антенны вело к удлинению волны. Но даже когда впоследствии были созданы сложные схемы передатчиков, в которых имелся промежуточный колебательный контур, и длину волны стало возможным выбирать независимо от длины проводников антенны, радисты все равно стремились применять возможно более длинные волны.
Веснин едва успевал записывать примеры, которые приходили ему на ум:
«Для увеличения дальности радиостанций их антенны иногда поднимались на воздушных шарах. В войну 1914–1918 годов для межконтинентальной связи применялись волны длиной в десятки тысяч метров. Антенны сооружались высотой до полукилометра и даже больше, а мощности передатчиков — дуговых, машинных — доходили до нескольких сот, иногда и тысяч киловатт. Так, антенна сверхмощной передающей радиостанции в Сурабайе, на острове Ява, предназначавшейся для связи с Голландией на расстояние около 12 тысяч километров, была укреплена на вершинах двух гор. И верхняя точка этой антенны отстояла от земли на 700 метров. В те годы считалось недопустимым, чтобы расстояние между приемной и передающей радиостанциями превышало длину волны больше чем в тысячу раз».
Перечитав написанное, Веснин подумал, что он излагает факты недостаточно последовательно, и решил, что для ясности следует вернуться к Попову.
«Через несколько лет после первых опытов Попова, — _ медленно, аккуратным почерком писал Веснин, — Маркони передавал радиосигналы из Англии в Америку через Атлантический океан. Оказалось, что, в отличие от световых волн, радиоволны распространяются не прямолинейно. Радиоволны огибали земной шар. Опыт показывал, что радиосвязь работает, когда между станциями нет прямой видимости. Ученые стали выдвигать разные теории для объяснения факта дальней радиосвязи.
Еще в 1902 году Кенелли в Америке и одновременно Хевисайд в Англии высказали предположение, что верхние слои атмосферы обладают высокой электропроводностью, так как они содержат много заряженных частиц — электронов и ионов. Эти проводящие слои, подобно зеркалу, отражают радиоволны, заставляют их возвращаться обратно к земле. Для этих отражающих радиоволны слоев атмосферы было предложено название — ионосфера ».
Рука Веснина остановилась. Слово ионосфера напомнило ему о его первой самостоятельной работе в лаборатории, о выпрямителе для Детскосельской ионосферной станции. Веснин не знал назначения прибора, но в технических условиях были очень подробно оговорены его размеры. В чертежах Веснин все это выполнил. Но потом, когда оказалось, что переключателей, предусмотренных по проекту, на складе нет, Веснин разрешил заменить их другими. Их ручки несколько выступали за пределы обусловленных размеров. Имел ли он право разрешить такую замену? Пока претензий от заказчика не поступало, но если там все же придерутся к этим выступающим ручкам?
Веснин вздохнул и уже с меньшим жаром принялся за свои записки.
«Для этих отражающих радиоволны слоев было предложено название ионосфера », — прочел он и подумал, что проще было бы написать: «Эти отражающие слои были названы ионосферой», но не стал ничего исправлять, потому что его все еще заботила мысль о выступающих ручках переключателей. Он заставил себя сосредоточиться и продолжал:
«Но в то время уровень радиотехники не позволял еще поставить прямых опытов, которые доказали бы, что высоко над землей, над стратосферой, лежат электропроводные слои. И правильная гипотеза Кенелли-Хевисайда не получила признания у радиоспециалистов».
Веснин писал, но тревога по поводу выступающих ручек выпрямителя не покидала его. Он постарался себя успокоить рассуждениями, что мастер, который руководил в цехе изготовлением выпрямителя, работает на заводе много лет. Верно, не впервые приходилось такому опытному мастеру отступать от чертежа на свой риск.
И, уже не думая больше о заводских делах, Веснин стал усердно писать дальше. Изложив теорию Кенелли-Хевисайда, то есть теорию отражения радиоволн от проводящей ионосферы, он счел своим долгом остановиться на «Концепции поверхностных волн», которую в 1907 году выдвинул немецкий радиофизик Ценнек. Ценнек утверждал, что никакого отражения радиоволн от верхних слоев атмосферы не существует, а престо радиоволна обладает свойством следовать за изгибами направляющего проводника, каким является Земля. Чем больше длина электромагнитной волны, тем лучше эта волна огибает выпуклость Земли и тем на большее расстояние можно эту волну передать.
«И такое заключение теории, — писал Веснин, — казалось, находится в полном соответствии с практическими опытами увеличения дальности действия радиосигналов с увеличением длины волны. 21 августа 1921 года вступил в строй бывший в то время самым мощным в мире 12-киловаттный радиотелефонный передатчик с электронными лампами. И электромагнитные волны длиной в 3200 метров понесли над Землей слова „Говорит Москва“.»
«Говорит Москва»! — именно эти слова открыли Веснину в детстве мир колебаний и волн. 3200 метров — это была волна, которую так неудачно ловил когда-то в киевском цирке радист с метеостанции.
С оттенком жалости думал сейчас Веснин об этом кудрявом энтузиасте, о молодом человеке с огненными волосами и сияющими застежками на тугих подтяжках — о Льве Дмитриевиче. Теперь такие длинные волны, с которыми приходилось работать Льву Дмитриевичу, вовсе не применяются в радиотехнике.
«Но в начале нашего столетия, — писал Веснин, — радиотехника развивалась именно в сторону отвергнутых ныне длинных волн и высоких антенн».
Не без авторской гордости перечитал он эту, как ему казалось, на редкость удачную формулировку:
«В начале нашего столетия радиотехника развивалась в сторону… длинных волн и высоких антенн».
И только тут вспомнил, что фраза эта не его, что эту фразу, как и многие другие, относящиеся к волнам и колебаниям, он слышал на антресолях Музея антропологии и сравнительной анатомии от профессора Николая Николаевича Кленского.
Родословное древо электровакуумных приборов

Некоторые слушатели курса микрорадиоволн, которых Кленский считал особо одаренными, получали иногда после лекции приглашение «бывать на антресолях» или даже «непременно побывать на антресолях». Кленский не считал Веснина выдающимся, подающим особые надежды студентом. И если Веснин, в числе других любимых слушателей, получил приглашение «зайти на антресоли», то этим он был обязан своему пристрастию к «ручному труду».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: