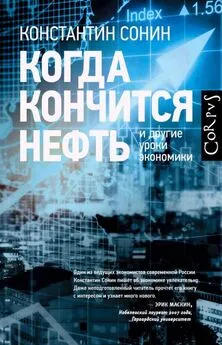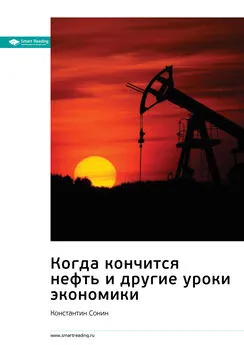Константин Сонин - Когда кончится нефть и другие уроки экономики [львиная доля примечаний (сносок) отсутствует)]
- Название:Когда кончится нефть и другие уроки экономики [львиная доля примечаний (сносок) отсутствует)]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ: CORPUS
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-115738-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Сонин - Когда кончится нефть и другие уроки экономики [львиная доля примечаний (сносок) отсутствует)] краткое содержание
Когда кончится нефть и другие уроки экономики [львиная доля примечаний (сносок) отсутствует)] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Разрушительный механизм
Имущественное неравенство – очень неприятная вещь. Этническая разобщенность – постоянный источник напряжения. Однако самая сложная ситуация складывается тогда, когда эти два фактора действуют одновременно. То есть, условно, когда имеются не только богатые и бедные, белые и черные, но и богатые белые, бедные белые, богатые черные и бедные черные. Когда люди в городе, области, стране разделены просто в соответствии с имущественным уровнем, механизм, который препятствует росту, выглядит так. И малоимущее большинство, и состоятельная элита пытаются установить неэффективный уровень перераспределения, или, другими словами, уровень обеспечения общественных благ – образования, здравоохранения, безопасности. Если этот выбор определяют богатые, налоги оказываются слишком низкими, если бедные – слишком высокими. А когда речь идет не о налогообложении экономической деятельности индивидов, а о распределении “приза” – природных ресурсов (например, нефти в Нигерии или алмазов в Руанде), то конфликт становится совсем разрушительным.
В случае же, когда категорий четыре (богатые белые и так далее) или больше, возникает еще больше проблем. Иногда состоятельное белое меньшинство может поддерживать неэффективно низкий уровень налогов (и, значит, низкий уровень обеспечения общественных благ), опираясь одновременно на поддержку бедных белых, разыгрывая этническую карту, и поддержку богатых черных, в чьих экономических интересах политика низких налогов [66]. При этом бедные черные фактически исключены из процесса, определяющего экономическую политику, и все больше склонны видеть основных обидчиков в “национально чуждом” богатом меньшинстве. Так, израильская политика, направленная на создание палестинских “стейкхолдеров мирного развития” – слоя палестинцев, чье благосостояние напрямую связано с туризмом и торговлей, иными словами, миром и отсутствием терактов, – одновременно создавала еще больший слой палестинцев, чувствующих и классовую, а не только этническую ненависть. “Избирателей ХАМАС”, одним словом.
Чей конфликт?
Казалось бы, чего проще: национальное разнообразие влечет раздробленность правительства, неспособность разных фракций договориться и эксплуатацию ловкими политиками этой неспособности. Однако экономическая политика плоха и в тех странах, где, несмотря на большую национальную разнородность, у власти находится одна этническая группировка. Дело в том, что возможность проводить границы симпатий у граждан по этническим линиям есть у политиков всегда. Этнические конфликты могут уходить корнями в глубь веков, но это не значит, что они сами по себе определяют политическое поведение индивида. Заставить гражданина видеть все в “национальном свете” – это то, что пытаются сделать и диктаторы, управляющие по принципу “разделяй и властвуй”, и демократические политики. Есть исследователи, которые считают, что даже разделение на хуту и тутси, приведшее в конце прошлого века к одному из самых кровавых конфликтов в африканской истории, было изначально чисто политическим: его придумала бельгийская колониальная администрация, чтобы облегчить управление колонией.
Гарвардские экономисты Эд Глейзер и Андрей Шлейфер описали общую тактику политиков, избиравшихся в мэры американских городов и в президенты африканских стран в XX веке [67]. Опираясь на одну этническую группу – ирландцев в Бостоне или чернокожих в Детройте, – они в буквальном смысле выдавливали другие этнические группы из своих городов, уменьшая таким образом количество избирателей, которые поддерживали их оппонентов. Глейзер и Шлейфер назвали эту стратегию “эффектом Керли” по имени бостонского мэра, прославившегося в первой половине ХХ века. Впрочем, эффект мог бы носить имя Колемана Янга, мэра Детройта, опиравшегося в политике на беднейших черных избирателей, или даже зимбабвийского президента Роберта Мугабе, с успехом выдавливавшего из своей страны белых фермеров. О том, что такая политика всякий раз приводила к экономическому упадку, можно, наверное, и не говорить.
В России в 2005 году на выборах в Мосгордуму партия “Родина” попыталась превратить экономический по существу конфликт – между москвичами и приезжими – в межнациональный. В марте 2006 года мэр Москвы Юрий Лужков после гибели 62 человек под обрушившейся крышей Басманного рынка обронил фразу “Ни один москвич не пострадал” – еще один пример риторики, скрыто направленной на превращение экономических противоречий в политические. Вопрос о компетентности тех, кто следил за соблюдением правил эксплуатации здания, становится менее важным, если оказывается, что пострадали в результате этой некомпетентности “чужие”. У такой тактики, помимо очевидных политических преимуществ на местном уровне, есть и оборотная сторона. Чем явственнее звучит подобная риторика в одном округе или пропаганда ценностей титульной нации на федеральном уровне, тем легче местным политикам, которые опираются в своем “домене” на этническое меньшинство. Кто будет следить за качеством новопостроенных дорог, когда “они против нас”?
В США во второй половине ХХ века политики не имели возможности открыто апеллировать к этническим чувствам, во всяком случае, к разделу по линии “белые – чернокожие”. Выступить с небольшой речью на испанском не вредило: это началось еще с Жаклин Кеннеди во время избирательной кампании 1960 года. А вот говорить “они против нас”, имея в виду какие-то этнические группы, было практически невозможно: избиратели раз за разом наказывали тех, кто этим занимался. Однако талантливый политтехнолог найдет обходной путь. В 2000 году Джон Маккейн, сенатор от американского штата Аризона, имел хорошие шансы выиграть праймериз в Южной Каролине. Одна из групп поддержки его оппонента распространила листовку, в которой сообщалось, что “Джон Маккейн – отец цветного ребенка”.
Эта информация была в некотором смысле совершенно точной. Простой избиратель, конечно, понял суть дела так: у Маккейна есть внебрачный ребенок (плохо, но в данном контексте полбеды), да еще и от черной женщины (в штате – цитадели южного сопротивления во времена Гражданской войны это не всем понравится). Информированный избиратель знал, что Маккейны за несколько лет до этого удочерили вьетнамскую девочку, против чего, конечно, никто ничего бы не имел. Однако голоса тех, на кого подействовала листовка, решили дело – и техасский губернатор Буш, выиграв первичные выборы в Южной Каролине, стал основным претендентом в кандидаты от Республиканской партии. Этот эпизод иллюстрирует сразу два тезиса. Во-первых, что, неявно апеллируя к расистским чувствам избирателей, можно получить дополнительные голоса. Во-вторых, что в современном обществе невозможно апеллировать к расизму в открытую.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Константин Сонин - Когда кончится нефть и другие уроки экономики [львиная доля примечаний (сносок) отсутствует)]](/books/1077769/konstantin-sonin-kogda-konchitsya-neft-i-drugie-uro.webp)
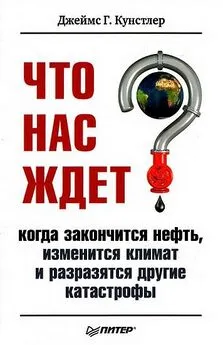

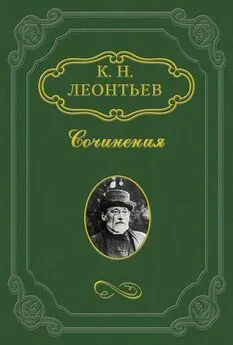
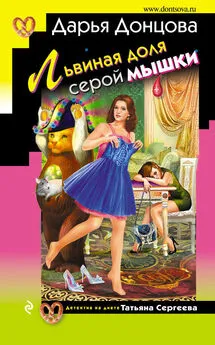
![Константин Сонин - Когда кончится нефть и другие уроки экономики [litres]](/books/1077723/konstantin-sonin-kogda-konchitsya-neft-i-drugie-uro.webp)