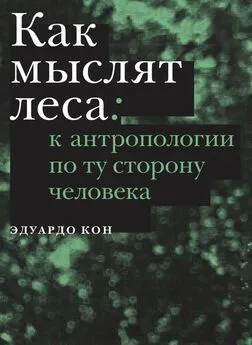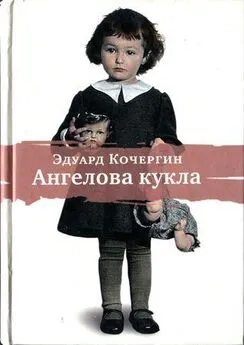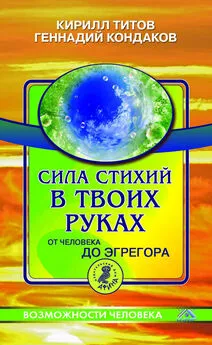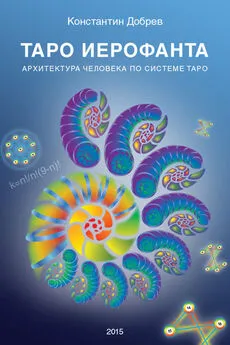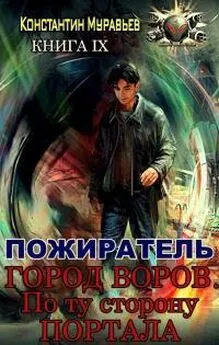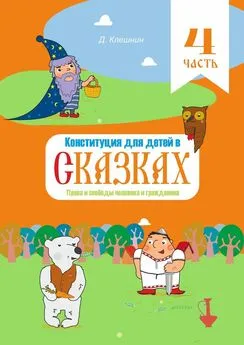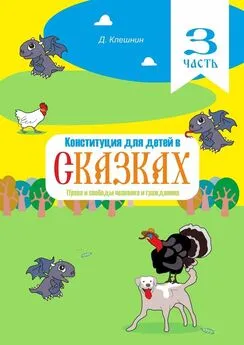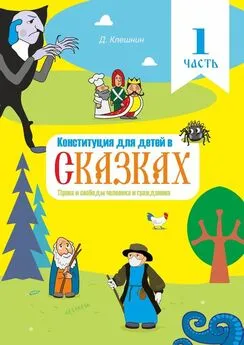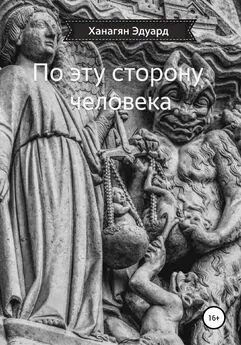Эдуардо Кон - Как мыслят леса. К антропологии по ту сторону человека
- Название:Как мыслят леса. К антропологии по ту сторону человека
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ад маргинем
- Год:2018
- Город:М.
- ISBN:978-5-91103-434-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдуардо Кон - Как мыслят леса. К антропологии по ту сторону человека краткое содержание
Как мыслят леса. К антропологии по ту сторону человека - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мужчина-«руна» c примитивной стенной росписи – созданный своим прошлым и исчезающий в будущем – не вполне соответствует тому руна из Авилы, который всегда и с самого начала был руна. Я считаю, что для руна из Авилы на росписи не должно быть изображено какой бы то ни было следующей ступени развития. Вместо этого следовало бы изобразить варьированные репризы центральной фигуры – самости руна, которая всегда изначально является тем, чем руна могут стать, – даже если их становление непрерывно и бесконечно. Это постоянно меняющаяся самость, неразрывно связанная со своими воплощениями из прошлого и потенциального будущего, рассказывает нам нечто важное о жизни и процветании в экологии самостей.
Такие термины, как руна , мы обычно считаем этнонимами, именами собственными, которые мы используем для называния других. Именно так я использовал его в этой книге. Согласно стандартной антропологической практике, использование подобного термина в качестве этнонима считается уместным тогда, когда он служит самоназванием рассматриваемого народа. По этой причине мы не называем ваорани «аука» – их уничижительным наименованием на кечуа. При этом «руна», особенно вкупе с названием конкретной местности, несомненно, используется как этноним в Авиле для обозначения говорящих на кечуа жителей эквадорской Амазонии. Так, например, «руна Сан-Хосе» относится к жителям Сан-Хосе де Пайамино, тогда как в Сан-Хосе де Пайамино соседей из Авилы называют «руна Авилы». Люди всегда именуют других.
Тем не менее у жителей Авилы нет самоназвания. Они не зовут себя ни руна, ни руна Авилы. Не используют они и термин кичва – этноним из обихода современного регионального и особенно национального политического движения коренного населения. Если относиться к слову «руна» как к обозначению и задумываться лишь о правильности термина, мы упустим из вида кое-что важное: руна никак себя не обозначают. По сути, дословный перевод руна с кечуа – это просто «человек». Однако это слово функционирует не только как существительное для порождения этнонимов или обозначений.
Возвращаясь к стенной росписи, можно сказать, что «руна» в любом случае относится к человеку с лучезарной улыбкой в накрахмаленной белой рубашке, стоящему между «дикарями» и «белым человеком».
С примитивистской точки зрения «руна» в этом случае будет этнонимом, обозначением промежуточной стадии в историческом процессе трансформации, в котором один вид существ превращается в другой, чтобы потом стать чем-то еще. Однако в Авиле интерпретация была бы иной. Человек в накрахмаленной рубашке по-прежнему был бы «руна», однако это обозначение отсылало бы к чему-то другому, менее видимому – тому, что назвать гораздо труднее, нежели исконную культурную группу. Этот человек никогда не становился руна; он был руна с самого начала.
Я имею ввиду (и это, надеюсь, станет более очевидно в продолжении главы), что слово «руна» более точно определяет реляционную позицию субъекта в космической экологии самостей, где все существа видят себя личностями. «Руна» здесь – самость в контексте непрерывности формы. Все существа в некотором смысле определяют себя как «руна», потому что именно так они ощущали бы себя, говоря «я».
Если считать «руна» существительным, мы не сможем увидеть, что на самом деле это слово используется скорее как личное местоимение. Обычно мы воспринимаем местоимения как слова, замещающие существительные. Однако Пирс предлагает вывернуть это отношение наизнанку. Местоимения не заменяют существительные, а, скорее, «обозначают вещи самым непосредственным образом из возможных», указывая на них. Существительные связаны с обозначаемыми объектами не напрямую, и потому их значение в конечном счете определяется такого рода указательными отношениями. Это приводит Пирса к заключению, что «существительное служит несовершенным заменителем местоимения», а не наоборот (1998b: 15). Я полагаю, что с точки зрения жителя Авилы мужчина руна со стенной росписи представляет собой особый тип местоимения первого лица: «я» или, возможно, более точно, «мы» – во всех его возможных воплощениях.
Как существительное, «руна» – «несовершенный заменитель местоимения». В своем несовершенстве оно содержит в себе след всех тех других, в отношении которых оно стало «мы». То, чем это существительное является и чем могло бы стать, определяется посредством всех аккумулированных им предикатов (потребление соли, моногамия и так далее), хотя и не ограничивается их совокупностью.
«Я» всегда в некотором смысле невидимо. Другие – «он», «она», «оно», – наоборот, объективированы, их можно увидеть и назвать. Стоит заметить, что третье лицо – другой – соответствует категории вторичности в терминологии Пирса. Оно ощутимо, видимо и реально, потому что находится за пределами нас самих (см. Главу 1). Это частично объясняет, почему самоназвание так редко встречается в амазонских экологиях самостей. Как заметил Вивейруш де Кастру, называние в действительности предназначено для других: «этнонимы – имена для третьих лиц; они принадлежат категории “они”, а не категории “мы”» (1998: 476). Следовательно, вопрос не в том, каким этнонимом пользоваться, а в том, способен ли этноним передать точку зрения самости. Наименование объективирует, и это как раз то, что мы делаем с другими – многочисленными «оно» [182] Безусловно, иногда самообъективация оказывается важной стратегией в достижении политической значимости.
. Руна (здесь я возвращаюсь к использованию объективирующего обозначения) – не «оно» истории. Они – «я», часть непрерывного «мы», живого, в жизни, выживающего – процветающего.
Руна как «я», как «мы» – не вещь, на которую влияет прошлое посредством причинно-следственных отношений. Руна не объект истории и не ее продукт, они не были созданы историей в причинно-следственном понимании. Однако то, кем они являются, – результат определенных тесных отношений с прошлым.
Эти отношения подразумевают еще одну форму отсутствия – отсутствующих мертвых. В этом смысле руна напоминают палочника – загадочное амазонское насекомое, которое становится все более невидимым, постепенно сливаясь с веточками, то есть благодаря всем другим существам, которыми оно не является. Те другие – несколько менее сливающиеся с ветками палочники – таким образом становятся видимыми, а значит, осязаемыми и реальными объектами (другими, «оно») для хищников. В результате возможные последующие поколения тех, кто остался невидимым, продолжат непрерывность существования, будучи незримыми, но при этом неотделимыми (в силу такого конститутивного отсутствия) от тех других, которые ими не являются.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: