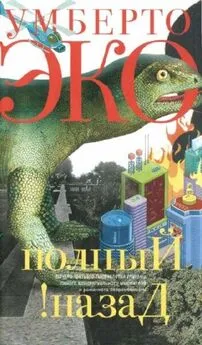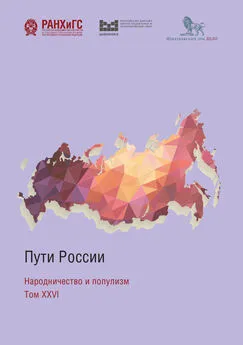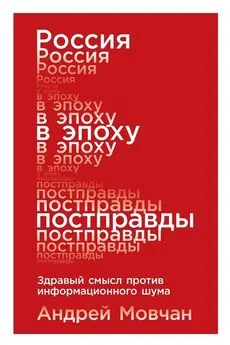Политика постправды и популизм
- Название:Политика постправды и популизм
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Политика постправды и популизм краткое содержание
Политика постправды и популизм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
С учетом того, что сейчас в издательствах серьезных научных журналов решение о публикации статей принимается на основании «слепого» двойного рецензирования присланных материалов, оценки с помощью специальных программ наличия в тексте плагиата, кроме того, внимательно анализируются собранные в интернете сведения об авторах (помимо присланных заявителем данных о себе), то появление в научных изданиях подобного рода «фейковых» статей действительно носит скандальный характер, но является вполне закономерным проявлением «политики постправды» в сфере науки, хотя такого не должно быть в принципе. Вместе
с тем подобные «эксперименты» над научными журналами не только являются неэтичными сами по себе, но это — в принципе недопустимая провокация в мире науки. Натурные эксперименты над учеными (да просто — над людьми) без их согласия, мыслимо ли такое в эпоху торжества просвещения и науки? В эпоху постмодерна и «постправды», как оказалось, вполне возможно.
В эпоху «постправды» размываются не только критерии истинности, но подчас сознательно разрушаются нормы нравственности и этичности поведения ученых. Так называемые «гибридная война» и политика «мягкой силы» в области общественных наук и образования подчас подталкивает авторов написать тексты, которые позволили бы им легко получить грантовую поддержку или опубликоваться в престижном научном издании. Не секрет, что определенные преференции при решении о публикации получают формально обладающие всеми признаками научности, но при этом глубоко идеологизированные тексты, если они вписываются в «мейнстрим» редакционной политики и совпадают с политическими взглядами наиболее авторитетных в составе редколлегии людей. Насколько научным является текст, если его автор при соблюдении всех необходимых формальных атрибутов научности (категориальным аппаратом, ссылками на первоисточники и теории, даже эмпирическими данными и проч.) стремился обосновать некую политическую идею, подобрать примеры, подтверждающие именно ее и т. д., то есть если искажение информации носит осознанный и системный характер? «Политика постправды» в науке делает сам вопрос о значении истины, о самой истине бессмысленным, задача для некоторых представителей науки заключается в «продвижении своего товара».
Этические требования на сайтах ведущих журналов гласят, что решение принимается на основе критериев научности, объективности и т. д., но многие из российских обществоведов уже неоднократно сталкивались с ситуацией, когда их статьи отвергали именно из-за того, что выводы присланных ими материалов не соответствовали политическим взглядам и представлениям членов редакции журнала. Кроме того, во многих научных изданиях предпочтение отдается текстам, тематика которых связана с борьбой против различных форм социальной несправедливости, злоупотреблений и акцентирует именно критическую составляющую исследования. Само по себе это не является чем-то плохим, но при этом часто размываются границы между научными и публицистическими текстами; доминирование в редакционной политике такого подхода значительно сужает перечень востребованных тем статей и предопределяет определенный набор ожидаемых от автора выводов. Нейтральность и беспристрастность рецензентов и членов редколлегии при принятии решения о судьбе научного текста, способность при оценке чужих научных статей отказаться от собственных методологических предпочтений и политических оценок — все это замечательные благопожелания, которые далеко не всегда реализуются в действительности. Хотя существует замечательная формулировка «мнение редколлегии может не совпадать с позицией авторов опубликованных в номере статей», более реальны практики отказа в публикации в связи с несоответствием идей автора точке зрения членов редколлегии.
Есть еще один тонкий момент в редакционной политике научных обществоведческих журналов, который вызывает вопросы: приветствуются не просто обширные пристатейные списки публикаций, фактически требуется доминирование ссылок на статьи из журналов, входящих в актуальные базы Web of sciences core collections и Scopus. Некоторая сюрреалистичность этого требования журналов, когда, по сути, фундаментальная монография оценивается как источник информации ниже любой статьи из престижных зарубежных баз периодических изданий, дополняется еще одним: ссылок на российские источники должно быть меньше, чем на англоязычные. Фактически формируется замкнутый круг с эффектом постоянного повышения цитирования журналов из этих баз на английском языке.
Итак, дело не только в научной честности и этике поведения ученых. Есть редакционная политика, которая вполне может оказаться «политикой постправды» институциональных структур, диктующих авторам научных текстов свою волю. Есть проблемы выбора при множественности правдоподобных описаний политических исследований, поскольку «научный подход требует от ученого установки на обнаружение того, что же на самом деле происходит в данной конкретной ситуации» 35 35 Шапиро И. Бегство от реальности в гуманитарных науках / пер. с англ. Д. Узланера. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. С. 35.
. Как отмечает И. Шапиро, «мир состоит из каузальных механизмов, существующих независимо от нашего исследования и даже осознания; научный метод — это лучший способ ухватить их истинный характер» 36 36 Там же. С. 36.
. Своего часа ждет анализ новых методов исследования в политической науке, например сверхпопулярных ныне Big Data, логика использования которых строится не на выяснении причинно-следственных связей, а на интерпретации совместной встречаемости признаков объектов без попыток выяснения универсальных принципов и сущностных характеристик изучаемых явлений. Интерпретация вместо объяснения — это тоже признак «постправды» в науке.
Как мы видим, «постправда» принимает в научном мире причудливые формы. И универсальных рецептов избегнуть этих «подводных камней» в поиске научной истины нет.
ГЛАВА 3.
ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ДИСКУРСА «ПОСТПРАВДЫ»
§ 1. Политический дискурс в эпоху «постправды»
Поскольку данная глава в целом посвящена основным технологиям
конструирования дискурса «постправды», прежде чем говорить о самих технологиях, следует, на наш взгляд, указать парадигму, в рамках которой будут анализироваться технологии и особенности их применения, то есть сказать несколько слов о тех особенностях политического дискурса, которые позволяют говорить о «постправде» как реальном общественно-политическом явлении, и в первую очередь о таком системообразующем признаке политического дискурса, как смысловая неопределенность. Она, в свою очередь, обусловливает в числе прочих такой его признак, как фантомность, который, несомненно, относится к сфере политического сознания. Пространство политических значений во многом складывается из фантомов, не имеющих никаких конкретных денотатов, то есть «мира самореферентных знаков», знаменитых бодрийяровских «симулякров» 37 37 Baudrillard J. Simulacres et simulation. P., 1981.
. В теории коммуникации для них наиболее подходит термин, предложенный Б. Норманом, — «лексические фантомы» 38 38 Норман Б. Ю. Лексические фантомы с точки зрения лингвистики и культурологии // Язык и культура: Третья Международная конференция. Киев, 1994. С. 53-60.
. К ним относятся обозначения вымышленных существ в фольклоре и литературе (мифологические и литературные фантомы), терминологическое закрепление ошибочных научных концепций (концептуальные фантомы) и, наконец, идеологические фантомы, в первую очередь присущие политическому дискурсу, в которых отрыв слова от денотата обусловлен идеологической деятельностью человека, разработкой той или иной социальной утопии, поддерживанием определенных социальных иллюзий, то есть прагматической составляющей, связанной с манипулятивными, убеждающими и успокаивающими функциями политического дискурса. В последнее время с легкой руки президента США Д. Трампа в публицистический дискурс вошло новое слово, объемлющее всю полноту значений создания и жизни таких фантомов-симулякров, — «фейк». И при всей острой актуальности и «модности» данного понятия оно далеко не продукт современности, а имеет очень долгую и наполненную историю. Фантомность политического дискурса, помимо вышеперечисленного, вытекает из приписывания языку магических свойств и порождает следующий его признак — фидеистичность, то есть сакральность, как транслируемая сверху адресантами дискурса, так и активно «требуемая» снизу его адресатами. Очевидно, что фидеистичность или фидеистическое отношение к слову является проявлением именно магической функции языка в целом (Мечковская Н. Б., 1998) и, в случае с политическим дискурсом, обусловлена такой его характеристикой, как иррациональность и опора на подсознание. Поскольку одной из причин фантомности и фидеистичности политического дискурса является опосредованный характер политического опыта большинства людей, которые принимают за реальность в том числе и политические симулякры (фейки), творимые и передаваемые коммуникативными посредниками (ретрансляторами дискурса), постольку политический дискурс обладает еще одной функцией, связанной с «правом на обладание» ключевых концептов политического дискурса, — герменевтической. Американский исследователь Д. Грин считает, что «явление овеществления — приписывания абстракциям свойств материальных объектов — выполняет в политике специфическую функцию: люди привыкают воспринимать абстрактные понятия типа „либерализм“ или „консерватизм“ как нечто реальное существующее и потому подлежащее „правильному“ определению. В этом случае чрезвычайную важность приобретает вопрос о том, кто контролирует толкование политических терминов. Политики соревнуются за то, чтобы овеществление проходило с их позиций, чтобы иметь возможность формировать общепринятые значения этих терминов и тем самым влиять на формирование категорий политического сознания» 39 39 Green D. The Language of Politics in America: Shaping the Political Consciousness from McKinley to Reagan. Ithaca, 2012. P. 3.
.
Интервал:
Закладка:
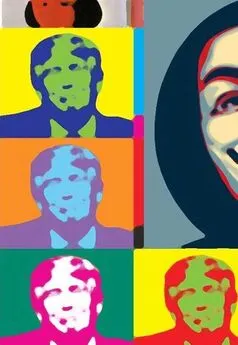
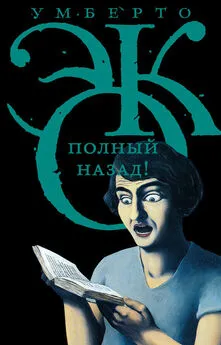
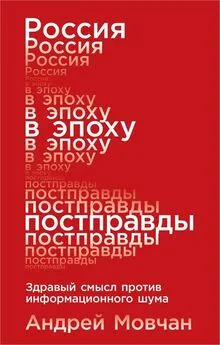
![Ян-Вернер Мюллер - Что такое популизм? [litres]](/books/1081673/yan-verner-myuller-chto-takoe-populizm-litres.webp)

![Дэниел Левитин - Путеводитель по лжи [Критическое мышление в эпоху постправды]](/books/1101191/deniel-levitin-putevoditel-po-lzhi-kriticheskoe-my.webp)