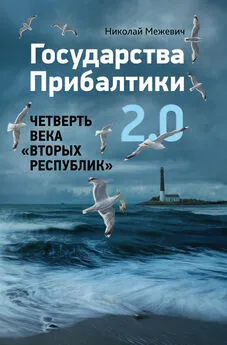Николай Межевич - Государства Прибалтики 2.0. Четверть века «вторых республик»
- Название:Государства Прибалтики 2.0. Четверть века «вторых республик»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алгоритм
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9068616-6-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Межевич - Государства Прибалтики 2.0. Четверть века «вторых республик» краткое содержание
Государства Прибалтики 2.0. Четверть века «вторых республик» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В 1939 году «Кооперативный союз Эстонии» объединял свыше 3 тыс. кооперативов, насчитывавших 284 тыс. членов. 200 кооперативных банков обслуживали 77 тыс. клиентов, располагали 52 % всех депозитов в стране и выдали 51 % всех ссуд. 314 молочных кооперативов с 32 тыс. членов произвели 98 % масла и 17 % сыра Эстонии [159]. Устойчивыми лидерами во внешней торговли Эстонии были Великобритания, Германия, СССР, эта многовекторность способствовала относительно стабильному экономическому развитию. Деиндустиализация имела место, но никогда не считалась экономической задачей. Впрочем, ситуация в межвоенные годы была не блестящей: «Нам казалось, что море по колено, и звучала ода солидности и предприимчивости эстонской экономики. Даже тогда, когда идущие впереди увидали разверзшуюся пропасть и стали отступать, в задних рядах возникло небольшое замешательство и зазвучали подбадривающие выкрики и прямые угрозы, чтобы заставить первых идти дальше» [160].
Однако в настоящее время, в последние 25 лет, реализуется модель одновекторной западной интеграции.
В начале 90-х годов ХХ века наши соседи разработали достаточно сходные модели экономического развития, примерно одинаковые в Вильнюсе, Риге и Таллине. В республиках советской еще Прибалтики осмысление предстоящих реформ началось с ностальгических, а потому и не всегда адекватных воспоминаний о «первых республиках» и создания концепций регионального хозрасчета.
Мифологическое восприятие своей экономической истории стало важнейшим компонентом отрицания настоящего.
Следует отметить, что в канун перестройки, в 1986 г. на одного жителя страны приходилось 5875 рублей стоимости основных фондов. Разброс по этому показателю, между республиками носил характер острейшей диспропорции: с одной стороны, в Эстонии – 8007 р., в Латвии – 6923, Литве – 6111, с другой стороны, и Белоруссии – 5500, Молдавии – 4500, Азербайджане – 3823, Таджикистане – 2291 р.
Еще более ощутимы были возраставшие различия между республиками по уровню заработной платы. В 1940 г. «расстояние» в заработной плате рабочих и служащих в межреспубликанском сопоставлении доставляло 10 рублей, в 1960 г. – 21 рубль, в 1970 – 33, а в 1988 г. уже 78 рублей. Если учитывать только сельское хозяйство, то в сельской местности контрасты были еще более резкими: в 1970 г. оплата труда колхозников в межреспубликанском сопоставлении различалась между верхними и нижними значениями на 74 рубля, а в 1989 г. уже на 159 рублей [161]. Не трудно догадаться, что все лидирующие позиции были заняты Литовской, Латвийской и Эстонской ССР. Интересно и то, что Советская Эстония по этому и другим показателям была впереди Советской Латвии и Литвы. В 2015 году ситуация осталась идентичной. «Реконструкция и расширение производства проводились в Прибалтийских республиках более высокими, чем в других регионах СССР, темпами, прежде всего потому, что Латвия и Эстония представляют собой резерв квалифицированной рабочей силы для всего Советского Союза. Да и инфраструктура в Прибалтике почти не пострадала во время войны» [162].
В Прибалтийских республиках к 1990 году доля населения, имеющая совокупный доход свыше 300 рублей, была наиболее значительной. Если в целом по СССР этот показатель был на уровне 8,8 %, то в Эстонии он равнялся 19,8 %, Латвии – 14,5 %, Литве – 13,8 %. В этих же республиках уровень бедности был самым минимальным. Доля населения с доходом до 75 рублей в Эстонии и Латвии не превышала 1 %, а в Литве была на уровне 1,2 %. Республики с наибольшей долей бедного населения показали и высший уровень автократии в период постсоветского развития [163].
Получая более высокую отдачу от капиталовложений, центр старался именно здесь размещать новые производственные мощности, которые осваивались быстрее, чем в других регионах. Доля новых основных фондов в республиках Прибалтики была выше, чем в целом по СССР, а материально-техническая база – более современной и менее изношенной. Аналогичная картина наблюдалась и в сельском хозяйстве. Колхозы и совхозы пользовались льготами при распределении фондов удобрений, сельхозтехники и кормов, элитных пород скота, закупленных за рубежом, и т. п. «Сельское хозяйство дотировалось на десятки миллиардов долларов в год за счет экспортировавшейся СССР нефти. Например, от колхозов и индивидуальных крестьян молоко закупалось по 55 копеек за литр, а в магазинах литр молока стоил 22 копейки. То же самое было с мясом и другой сельхозпродукцией. Представляете, какая огромная государственная дотация! Независимому латвийскому государству негде было взять такие деньги» [164]. Для нас очевидно то, что первоначальные экономические успехи государств Прибалтики были во многом, но, конечно же, не полностью обусловлены «советским наследством» в виде инфраструктурного и промышленного потенциала, качества человеческого капитала.
В 1987 году руководство КПСС и Правительство СССР приняли первые решения положившие начало радикальным изменениям системы управления советской экономикой. (Июньский пленум ЦК КПСС.) Трансформация экономики Балтийских стран – Эстонии, Латвии, Литвы – началась не с 1991 года, как ошибочно считает ряд исследователей, а с 1987 года.
Начало политических реформ в Латвии, Литве и Эстонии – 1990 год, однако уже в 1989 году понимание необходимости и неизбежности реформ стало фактором, консолидирующим общество. Общий характер реформ был очевиден – разгосударствление экономики, сочетающееся с обретением новой территориальной рамки масштаба экономики. С точки зрения экономического управления Прибалтика вышла из СССР еще в 1989 году. Закон СССР от 27.11.1989 «Об экономической самостоятельности Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР» содержал следующее положение: «Республика на взаимовыгодных и добровольных началах принимает участие в финансировании из своего бюджета общесоюзных (межреспубликанских) научно-технических программ, страховых фондов по охране окружающей среды, а также образовании резервных и других денежных фондов для нормального функционирования союзного рынка» [165]. Это на практике означало одноканальный бюджет, т. е. распад СССР.
Тезис о значимости советского наследства в экономическом развитии был поставлен нами еще в 1991 году [166]. В дальнейшем он неоднократно затрагивался и развивался в ряде работ. К сожалению, наряду с объективными оценками «до советского» развития встречаются и заведомо политизированные оценки. Прибалтика «по уровню экономического развития примерно соответствовала уровню некоторых стран Центральной Европы и Скандинавии» [167]. (?) Однако даже такие «эксперты», считающие, что в довоенном 1938 году уровень жизни в Польше был равен шведскому, признают, что в советской экономике республик Прибалтики «большинство предприятий выполняли функции социального и культурного обслуживания для занятых на них работников и их семей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: