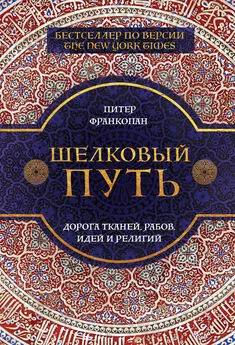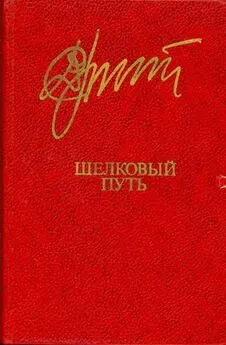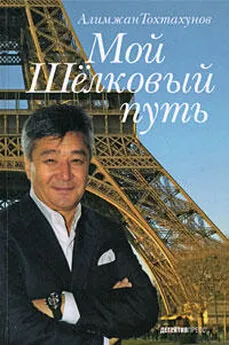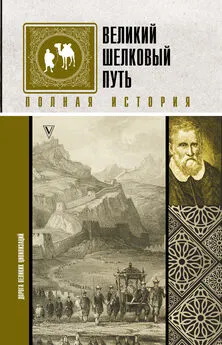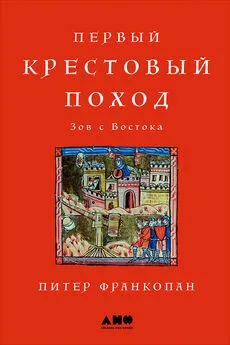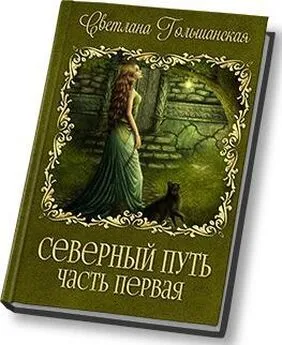Питер Франкопан - Шелковый путь. Дорога тканей, рабов, идей и религий
- Название:Шелковый путь. Дорога тканей, рабов, идей и религий
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-95706-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Питер Франкопан - Шелковый путь. Дорога тканей, рабов, идей и религий краткое содержание
Вы увидите, что история развивалась совсем не так, как мы привыкли изучать в школе. Так, столетия назад интеллектуальные центры мира, «Оксфорды» и «Кембриджи», «Гарварды» и «Йели», находились не в Европе, а в городах Средней Азии, куда и съезжалась вся просвещенная молодежь в поисках успеха.
Шелковый путь. Дорога тканей, рабов, идей и религий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Естественно, что мистика Востока и сказки об опасностях, которые подстерегали тех, кто искал редкие сокровища, ценившиеся очень высоко, были тесно связаны с ожиданиями того, что можно будет выручить за эти товары, когда их привезут в Европу. Товары, производство или сбор которых были опасны, естественно, и стоили больше [780] A. Appadurai, ‘Introduction: Commodities and the Politics of Value’, in A. Appadurai (ed.), The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective (Cambridge, 1986), рр. 3–63.
. Около 1300 года стали появляться справочники и сборники о путешествиях, торговле в Азии и прежде всего о том, как получить хорошую выгоду. «В первую очередь, вы должны отрастить длинную бороду и не бриться», – писал Франческо Пеголотти, автор самого известного путеводителя того периода. Он рекомендовал обязательно взять путеводитель с собой в путешествие – он позволит сэкономить больше, чем стоит хороший справочник. Однако самая ценная информация, которую дал автор, – раскладка налогов в разных местах, разницы в весах, мерах и валюте, а также данные о внешнем виде специй и их стоимости. В средневековом мире, так же как и в современном, смысл таких путеводителей был в том, чтобы избежать разочарования и уменьшить шансы недобросовестных торговцев обмануть путешественников [781] Francesco Pegolotti, Libro di divisamenti di paesi (e di misure di mercatantie), tr. H. Yule, Cathay and the Way Thither , 4 vols (London, 1913–1916), 3, рр. 151–155. Также см. здесь J. Aurell, ‘Reading Renaissance Merchants’ Handbooks: Confronting Professional Ethics and Social Identity’, in J. Ehmer and C. Lis (eds), The Idea of Work in Europe from Antiquity to Modern Times (Farnham, 2009), рр. 75–77.
.
Поистине удивительным был тот факт, что Пеголотти был родом не из Венеции или Генуи, двух могущественных городов XIII–XIV веков, а из Флоренции. Были и другие города, которые хотели приобщиться к происходящему на Востоке, например Лукка и Сиена. Торговцев оттуда можно было встретить в Тебризе, Аясе и других восточных городах. Они покупали специи, шелк и другие ткани из Китая, Индии, Персии и иных мест.
Лучше всего ощущение открывающихся горизонтов было отражено на карте, которая висела в Зале Большого Совета в народном дворце Сиены. Она была сделана таким образом, что ее можно было поворачивать вручную. Карта была ориентирована на города Тосканы, и на ней были отмечены расстояния, транспортные сети, а также агентурная сеть, контакты и посредники, находящиеся в самой Азии. Даже малоизвестные города в центре Италии начали посматривать в сторону Востока в поисках вдохновения и выгоды, а также с целью установить свои собственные связи с Шелковым путем [782] R. Prazniak, ‘Siena on the Silk Roads: Ambrozio Lorenzetti and the Mongol Global Century, 1250–1350’, Journal of World History 21.2 (2010), рр. 179–181; M. Kupfer, ‘The Lost Wheel Map of Ambrogio Lorenzetti’, Art Bulletin 78.2 (1996), рр. 286–310.
.
Основой европейской экспансии была стабильность, которой монголы добились по всей Азии. Несмотря на напряженность и распри между разными ветвями племенных союзов, когда дело касалось коммерческих вопросов, закон исполнялся неукоснительно. Дорожная сеть в Китае, например, была предметом зависти путешественников, которые восхищались административными мерами, которые были приняты для обеспечения безопасности купцов. «Китай – самая безопасная и самая лучшая страна для путешествий», – писал ибн Баттута, путешественник и исследователь XIV века. Он отмечал, что это место, где система ежедневной отчетности построена таким образом, что «человек может путешествовать здесь один, имея при себе большой капитал, и не бояться» [783] Ibn Baṭṭūṭa, al-Riḥla , tr. H. Gibb, The Travels of Ibn Battuta , 4 vols (Cambridge, 1994), 4, 22, рр. 893–894.
.
Это же мнение разделял и Пеголотти, который писал, что путь от Черного моря до самого Китая «удивительно безопасный, неважно ночью или днем». Частично это было результатом традиционных воззрений кочевников на вопросы гостеприимства, которое нужно оказать чужестранцу, но также говорило о том, что монголы стремились поощрять торговлю. В этой связи конкурентоспособные налоги на товары, проходящие через Черное море, получили отголоски на другой стороне Азии, где морская торговля в портах Китая на побережье Тихого океана тоже выросла благодаря увеличению таможенных поступлений [784] E. Endicott-West, ‘The Yuan Government and Society’, Cambridge History of China , 6, рр. 599–560.
.
Одной из областей, в которой все это оказалось эффективно, являлся экспорт тканей, производство которых сильно возросло в XIII и XIV веках. В Нишапуре, Герате и Багдаде было организовано текстильное производство, а Тебриз увеличился в четыре раза всего за столетие, чтобы разместить торговцев, производителей и ремесленников, отношение к которым после монгольских завоеваний стало явно лучше. Хотя на рынках Востока наблюдался огромный спрос на качественные ткани, начиная с XIII века огромные партии этого товара экспортировались в Европу [785] Allsen, Commodity and Exchange , рр. 31–39.
.
Горизонты расширялись по всему миру. Китайские порты, например Гуанчжоу, долгое время служили для Южной Азии окнами в мир. Такие крупные торговые центры были хорошо известны персидским торговцам, арабским географам и мусульманским путешественникам, которые оставили рассказы об оживленных улицах городов на побережье и на континенте, а также предоставили информацию о разнообразном населении этих городов. Уровень сообщения и торговли был таков, что в современном китайском языке до сих пор можно встретить идиомы, которые пришли из персидского и арабского языков [786] C. Salmon, ‘Les Persans à l’extrémité orientale de la route maritime (IIe a.e. – XVIIe siècle)’, Archipel 68 (2004), рр. 23–58; а также L. Yingsheng, ‘A Lingua Franca along the Silk Road: Persian Language in China between the 14th and the 16th Centuries’, in R. Kauz (ed.), Aspects of the Maritime Silk Road from the Persian Gulf to the East China Sea (Wiesbaden, 2010), рр. 87–95.
.
В то же время знания китайцев об окружающем мире были отрывочны. Как показывает текст, написанный имперским чиновником, отвечающим за внешнюю торговлю Гуанчжоу в южном Китае, этот город располагался в прекрасной природной гавани в дельте реки Чжуцзян. Источники, написанные для торговцев, моряков и путешественников, делали смелую попытку объяснить методы ведения бизнеса в арабоговорящем мире и за его пределами, перечислить товары, которые там можно купить, и что ожидает там китайских торговцев. Но так же как и многие другие справочники для путешественников того периода, этот полон неточностей и полумифических сведений. Мекка, например, не была домом Будды и не являлась тем местом, куда буддисты совершали паломничество раз в год. Не было и земель, где женщины размножались, «отдавшись нагишом порывам южного ветра». Дыни в Испании не достигали шести футов в диаметре и не могли прокормить 20 человек. Так же как и овцы в Европе не достигали размера взрослого человека, и их не разрезали по весне, чтобы достать дюжину фунтов жира, и не зашивали обратно без всяких последствий [787] F. Hirth and W. Rockhill, Chau Ju-Kua: His Work on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries, Entitled Chu-fan-chi (St. Petersburg, 1911), рр. 124–125, 151, 142–143.
.
Интервал:
Закладка: