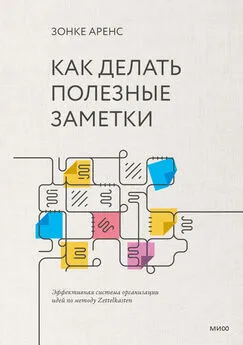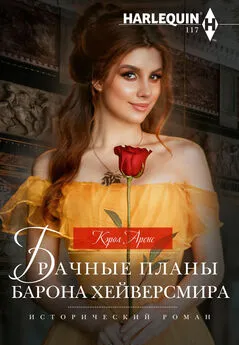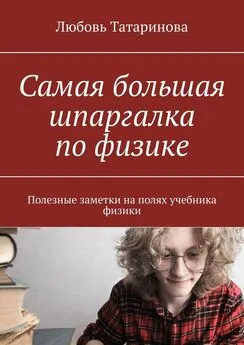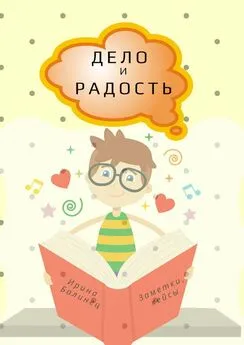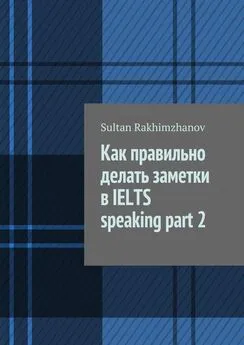Зонке Аренс - Как делать полезные заметки
- Название:Как делать полезные заметки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Манн, Иванов и Фербер
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:9785001699859
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Зонке Аренс - Как делать полезные заметки краткое содержание
С помощью этой книги вы освоите принцип полезных заметок и поймете не только то, как он работает, но и почему. Неважно, кто вы и чем занимаетесь — учитесь в университете, пишете статьи или просто читаете книги и изучаете интересную информацию, — с помощью метода Zettelkasten вы научитесь делать это более продуктивно и без лишних усилий.
Как делать полезные заметки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Этот перенос также позволяет нам их забыть. Звучит парадоксально, но на самом деле забывание способствует долгосрочному обучению. Важно понять почему, потому что все еще многие студенты избегают использовать внешнюю системы памяти. Они опасаются, что им придется выбирать между запоминанием вещей в своей голове (для чего внешняя система не требуется) или во внешней системе памяти (которую мы потом благополучно забудем). То, что это ошибочный выбор, становится очевидным, как только мы понимаем, как на самом деле работает наша память.
Быть в состоянии запомнить все и не прибегать к внешним системам памяти на первый взгляд здорово. Но, возможно, вы измените свое мнение, когда узнаете историю человека, который действительно мог запомнить практически все. Репортер Соломон Шерешевский [92] — одна из самых известных фигур в истории психологии. Когда его начальник увидел, что он не делал никаких записей во время их встреч, он сначала усомнился в желании Шерешевского работать, но вскоре усомнился скорее в собственном рассудке. Когда он предъявил Шерешевскому обвинения в лени, тот начал повторять каждое слово, сказанное во время встречи, и продолжал дословно пересказывать все встречи, которые у них когда-либо были. Его коллеги были поражены, но больше всего — сам Шерешевский. Это был первый раз, когда он понял, что все остальные, оказывается, забывают практически все. Даже те, кто делал заметки, не могли вспомнить и части того, что ему казалось нормальным помнить.
Александр Романович Лурия, психолог, который впоследствии проверял его всеми мыслимыми способами, не смог найти ни одного из естественных ограничений, которые люди обычно имеют в своей памяти. Но также стало ясно, что за это преимущество пришлось заплатить огромную цену: Шерешевский не только мог запомнить все, он также ничего не мог забыть. Важные вещи терялись под грудой не относящихся к делу деталей, которые невольно приходили ему в голову. Хотя он очень хорошо запоминал факты, Шерешевский был почти не способен уловить суть чего-либо, концепции, стоящие за частностями, и отличить относящиеся к делу факты от второстепенных деталей. У него были большие проблемы с литературой и поэзией. Он мог бы повторить книгу слово в слово, но от него ускользало высшее значение. В то время как «Ромео и Джульетта» для большинства из нас — это история любви и трагедии, для него это была бы история «В двух семьях, равных знатностью и славой, / В Вероне пышной разгорелся вновь / Вражды минувших дней раздор кровавый, / Заставив литься мирных граждан кровь…». Очевидно, что для академического мышления и письма дар запоминания всего подряд является серьезным препятствием.
Наука об обучении все еще не решила, все ли мы имеем ту же способность запоминать практически все, с чем когда-либо сталкивались, но только, в отличие от Шерешевского, возможно, лучше подавляем ее.
В конце концов, вспоминаем же мы иногда сцены из прошлого в мельчайших деталях, внезапно захваченные неким сигналом, подобным запаху мадлен в исследованиях Пруста. Эти моменты непроизвольных воспоминаний могут быть похожи на небольшие трещины в ментальном барьере, через которые мы можем мельком увидеть все воспоминания, которые накопили за нашу жизнь, и, возможно, никогда больше не получим к ним доступа.
Таким образом, забывание означало бы не потерю памяти, а установление ментального барьера между сознательным разумом и нашей долговременной памятью. Психологи называют этот механизм активным подавлением [93]. Легко понять, какая в нем польза: без тщательного фильтра наш мозг постоянно был бы наводнен воспоминаниями, и сосредоточиться на чем-либо вокруг было бы невозможно. Это то, с чем боролся Шерешевский: был момент, когда он пытался купить мороженое, но какое-то случайное слово продавца вызвало такое огромное количество ассоциаций и воспоминаний, что ему пришлось покинуть магазин, настолько ошеломляющим был этот опыт.
Мы очень зависим от механизмов нашего подсознания, которые надежно и постоянно подавляют почти все воспоминания, за исключением очень, очень немногих, которые действительно помогают в той или иной ситуации. К сожалению, мы не можем просто сознательно выдернуть из памяти то, что нам нужно, как из папки в архиве. Для этого понадобилось бы, чтобы память, из которой мы могли бы выбирать, уже была в нашем сознании, что сделало бы сам механизм вспоминания излишним. Вспоминание — это тот самый механизм, который возвращает кусочки памяти в сознательный разум. Следовательно, Шерешевский мог также не обладать способностью, которой не обладает большинство из нас, но ему не хватало способности, которой обладаем все мы: способности систематически забывать — подавлять запоминание большинства несущественной информации.
Шерешевский все еще был способен подавлять информацию, но даже просто менее точная настройка этого механизма может иметь серьезные последствия. Из-за того, что его слишком часто переполняли воспоминания, ассоциации и синестетические переживания, ему было трудно оставаться на работе и получать удовольствие от многих вещей, которые мы очень ценим. Прежде всего, Шерешевский почти не мог мыслить абстрактно.
Роберт и Элизабет Лигон Бьорк из Калифорнийского университета предлагают различать два разных вида измерения, когда дело касается памяти: сила запоминания и сила вспоминания [11]. Они предполагают, что сила запоминания, способность хранить воспоминания, только увеличивается в течение жизни. Мы добавляем все больше и больше информации в долговременную память. Просто посмотрев на физические возможности нашего мозга, мы можем увидеть, что действительно могли бы сохранить в нем всю жизнь и еще чуть-чуть [22, с. 42].
Проверить это утверждение сложно, если не невозможно, но имеет смысл переключить внимание с силы запоминания на силу вспоминания. Процесс обучения будет заключаться не столько в сохранении информации, как на жестком диске, сколько в построении связей и мостов между частями информации, чтобы в нужный момент обойти механизм подавления. Важно убедиться, что правильные «сигналы» запускают правильные воспоминания, так мы можем начать мыслить стратегически, чтобы вспоминать наиболее полезную информацию, когда она нам нужна.
Это далеко не самая очевидная вещь. Если мы посмотрим на текущее состояние образования, особенно на стратегии обучения, применяемые большинством учащихся, мы увидим, что основное обучение по-прежнему направлено на улучшение «силы запоминания», несмотря на то что это сделать нельзя. Все по-прежнему сводится к запоминанию отдельных фактов, а не налаживанию связей. Это то, что психологи обучения справедливо назвали уничижительным термином «зубрежка»: попытка закрепить информацию в мозге путем повторения. По сути, это вбивание фактов в мозг, как если мы вырезали бы их на древней каменной табличке. Использование причудливых словечек и описание этого как «усиления связей между нейронами» не меняют того факта, что подобная попытка обречена на провал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
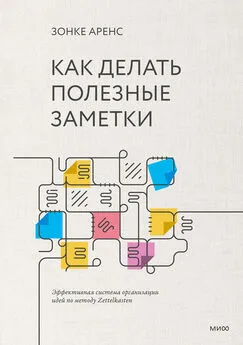
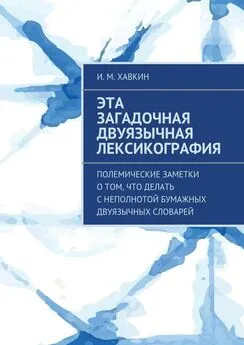
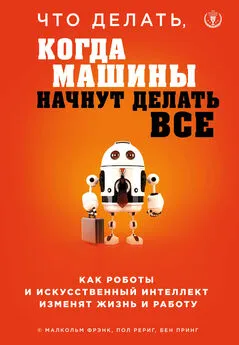
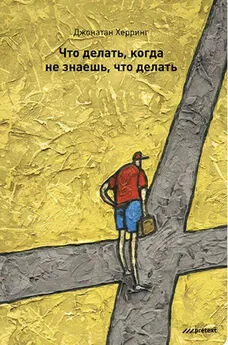
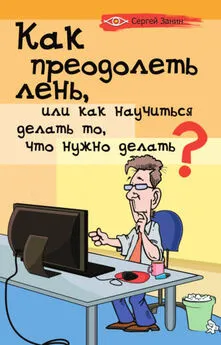
![Наталья Краснова - [НЕ]ВЕРНОСТЬ. Что делать, когда не знаешь, что делать](/books/1163779/natalya-krasnova-ne-vernost-chto-delat-kogda-n.webp)