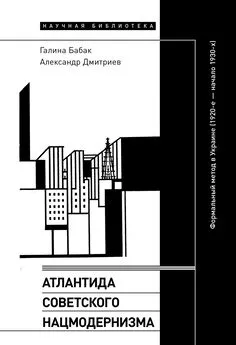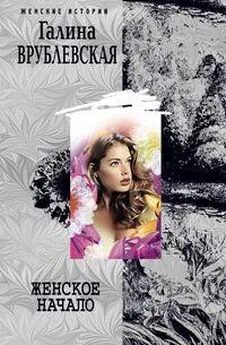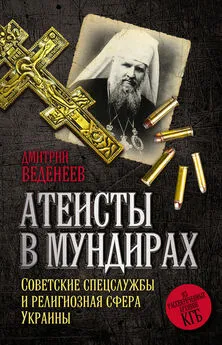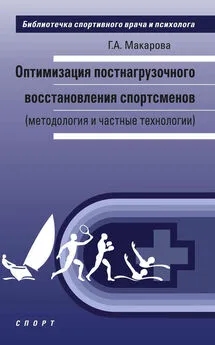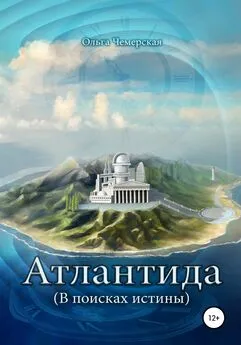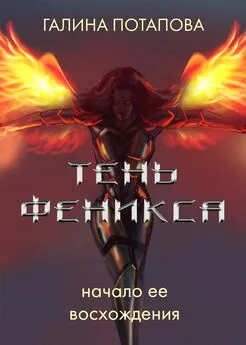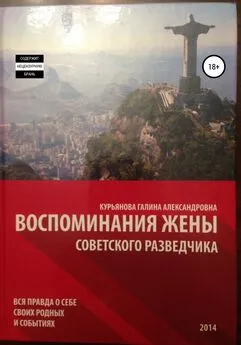Галина Бабак - Атлантида советского нацмодернизма. Формальный метод в Украине (1920-е – начало 1930-х)
- Название:Атлантида советского нацмодернизма. Формальный метод в Украине (1920-е – начало 1930-х)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444816523
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Галина Бабак - Атлантида советского нацмодернизма. Формальный метод в Украине (1920-е – начало 1930-х) краткое содержание
Атлантида советского нацмодернизма. Формальный метод в Украине (1920-е – начало 1930-х) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Пожалуй, наиболее известным примером англоязычных исследований феномена «запоздавшего» европейского модернизма является изучение эволюции греческой словесности у Грегори Джусданиса, который предложил эксплицированную модель трактовки национально-литературной идеологии [9] Jusdanis G. Belated modernity and aesthetic culture: Inventing national literature. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991.
. Впрочем, такая запоздалость отчасти предполагает и «неодновременность» (отмеченную Эрнстом Блохом в середине 1930‐х), но в еще большей степени – ускоренное развитие литератур. Этот феномен наложения, «спрессовки» разных литературных эпох описан Георгием Гачевым применительно к болгарской литературе XIX века еще в начале 1960‐х годов, а затем этот поход применен им для исследования творчества Чингиза Айтматова – знакового автора «многонациональной советской литературы» [10] Гачев Г. Д. Неминуемое: ускоренное развитие литературы. М., 1989.
.
Но в нашем случае речь идет и о политически ускоренном развитии словесности (и литературной критики и теории), где каждая из сторон – а не только большевистское руководство Украины, существенно менявшееся в 1920‐е, – претендовала на единое , слитное понимание этого рождающегося культурного синтеза. Среди новейших исследований стоит, с одной стороны, обратить внимание – вслед за Майклом Дэвид-Фоксом, например, – на постановку и решение общих, глобальных и всеевропейских проблем Modernity в рамках большевистского/советского проекта [11] Дэвид-Фокс М. Модерность в России и СССР: отсутствующая, общая, альтернативная, переплетенная? // Новое литературное обозрение. 2016. № 140. С. 19–44 (и материалы обсуждения этой статьи).
. С другой стороны, в недавних работах Галина Тиханова сам формализм рассматривается не только как оппонент марксизма, но и как его своеобразный «родственник», «кузен-соперник», пользуясь знаменитой семейной метафорикой Шкловского насчет «дяди» и «племянника» [12] Tihanov G. The Birth and the Death of Literary Theory. Regimes of Relevance in Russia and Beyond. Stanford, California: Stanford UP, 2019; Тиханов Г. Заметки о диспуте формалистов и марксистов 1927 года // Новое литературное обозрение. 2001. № 50. С. 279–286.
. Наконец, ряд общих штудий Ханса Ульриха Гумбрехта и Сьюзан Фридман посвящены сложным гибридным характеристикам и полицентричности литературного модернизма, адаптирующего авангардные сдвиги 1920‐х годов и восполняющего одномерность характеристик сугубо экономической цивилизации [13] Гумбрехт Х. У. В 1926: жизнь на острие времени. М.: Новое литературное обозрение, 2005; Friedman S. S. Definitional excursions: the meanings of modern / modernity / modernism // Disciplining Modernism / Ed. by P. Caughie. London: Palgrave Macmillan, 2009. P. 11–32.
.
Настоящая книга стремится не только проследить развитие формальной теории в советской украинской культуре, но и реконструировать историю развития украинской критики и литературоведения в широком идеологическом и политическом контексте формирования раннесоветской «надстройки» в разных национальных республиках (пусть даже в самых общих чертах) [14] Основой могут быть материалы фундаментального труда А. В. Крусанова «Русский авангард: 1907–1932 (Исторический обзор)» и отражения «периферийных» процессов в столичной печати времен Гражданской войны в хронике Александра Галушкина: Литературная жизнь России 1920‐х годов: Москва и Петроград 1917–1920 гг. / Под ред. А. Ю. Галушкина. М.: ИМЛИ РАН, 2005. Т. 1–2. См. также: Никольская Т. Л. «Фантастический город». Русская культурная жизнь в Тбилиси (1917–1921). М.: Пятая страна, 2000; Красовицкая Т. Ю. Национальные элиты как социокультурный феномен советской государственности (октябрь 1917–1923 гг.). М.: ИРИ РАН, 2006; Le Foll C. The Institute for Belarusian Culture: The Constitution of Belarusian and Jewish Studies in the BSSR Between Soviet and non-Soviet Science (1922–1928) // Ab Imperio. 2012. № 4. С. 245–274 и др.
. Однако для понимания складывающихся после революции напряжений и творческих импульсов необходимо сделать значительный шаг назад по хронологической шкале – для выявления их истоков [15] На протяжении всего ХIX века в Российской империи украинцы воспринимались господствующей культурой не как самостоятельная нация, а как часть общерусской, при этом специфика языка, культурных и этнографических особенностей представлялась как региональная разновидность общерусского развития. См.: Борисенок Е. Ю., Лескинен М. В. «Украинский вопрос» в системе исторических и политических координат: Российская империя и Советский Союз // Малороссы vs украинцы: Украинский вопрос в науке, государственной и культурной политике Российской империи и СССР. М., 2018. С. 7–50.
. Временем отсчета является последняя треть ХІХ века, отмеченная своего рода неоромантическим переломом в культурном сознании, сменой научной парадигмы, постепенным переходом от «старо»-позитивистского к модернистскому типам мышления (или наложением этих базовых подходов). Потому первая часть книги будет посвящена эволюциям идей преимущественно эпохи 1848–1914 годов [16] Этнокультурным аспектам разных национальных возрождений от Скандинавии и Португалии до Латинской Америки в Новое время посвящена обзорная работа социолога Э. Леусси – на основе «примордиалистких» идей Э. Смита: Leoussi A. S. The ethno‐cultural roots of national art // Nations and Nationalism. 2004. Vol. 10. № 1/2. P. 143–159.
.
Дискуссии о национальном содержании литературы, ее художественно-эстетических и идеологических ориентирах, которые разворачивались после 1917 года и на протяжении 1920‐х на страницах украинской периодики и печати, явно свидетельствуют о попытке отгородить себя от влияния русской «имперской» культуры метрополии и создать собственный, национальный, вариант развития словесности и гуманитарных наук. Этим спорам предшествовала разнообразная и упорная деятельность по формированию самостоятельной украинской науки и культуры (в Галичине [17] Из двух равноценных вариантов названия этого региона – Галиция и Галичина – авторы книги выбрали последнее.
и бывшей Малороссии) в контексте национального возрождения; наиболее последовательно – в контексте идеологии 1848 года и революционных импульсов 1905 года, где полюсом отталкивания – притяжения были культуры австро-немецкая и в особенности польская [18] Украинское национальное возрождение разворачивалось на территории современной Украины, которая была разделена между Австрийской (с 1867 г. Австро-Венгерской) и Российской империями. См. подробнее: Грицак Я. Нариси історії України: формування модерної української нації XIX–XX ст. К.: Генеза, 1996; а о внешних обстоятельствах: Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). СПб., 2000.
.
В то же время даже поверхностный анализ литературно-критического и филологического украинского материала этого периода говорит о его тесной связи, параллелизмах и «переприсвоении» теоретических и художественных идей и даже целых систем, которые появились в Петербурге и Москве накануне Первой мировой войны и активно развивались в первой половине 1920‐х годов (вначале и на основе общих для украинских и российских теоретиков европейских источников). Самый факт, что даже географические маршруты и топосы русского и украинского авангардных и модернистских течений в 1920‐е годы отчасти совпадают, говорит о том, что порой невозможно категорически разграничить «русский элемент» и «украинский» в каждом отдельном культурном феномене [19] См. подробнее об этом: Shkandrij M. Avant-Garde Art in Ukraine 1910–1930: Contested Memory. Boston: Academic Studies Press, 2019.
. В этом смысле процессы нацмодернизации 1920‐х в Закавказье, Поволжье, Средней Азии были и более «туземными» и одновременно более стыковыми, «монтажными» за счет выросшей мобильности писателей, художников и ученых между метрополией и бывшими периферийными регионами [20] В политическом плане возникающие дилеммы описаны у А. Халида для среднеазиатского джадидизма или Азербайджана у Й. Баберовски ( Халид А. Чем была революция в Туркестане? // Неприкосновенный запас. 2017. № 5. С. 165–177; Баберовски Й. Цивилизаторская миссия и национализм в Закавказье: 1828–1914 гг. // Ab Imperio: Новая имперская история постсоветского пространства. Казань, 2004. С. 307–352; Баберовски Й. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе. М.: РОССПЭН, 2010). В культурном и искусствоведческом плане важно отметить работы: Асеева Н. К. Украинское искусство и европейские художественные центры, конец XIX – начало XX веков. К.: Наукова думка, 1989; Авангард, остановленный на бегу. Л.: Аврора, 1989; Ріпко О. У пошуках страченого минулого: Ретроспектива мистецької культури Львова ХХ століття. Львів: Каменяр, 1996; АРХУМАС: казанский авангард 20‐х / Авт. – сост. И. И. Галеев, О. Л. Улемнова. М., 2005; Казанский авангард 1910–1930‐х. Из серии «Художественные сокровища Татарстана» / Авт. – сост. О. Л. Улемнова, С. Е. Новикова. Казань: Заман, 2014; Чухович Б. Sub rosa: От микроистории к «национальному искусству» Узбекистана // Ab Imperio. 2016. № 4. С. 117–154 (подробнее об этом речь пойдет в разделе, связанном с идеями ВАПЛИТЕ и научными измерениями евразийства).
.
Интервал:
Закладка: