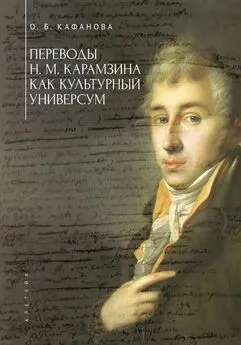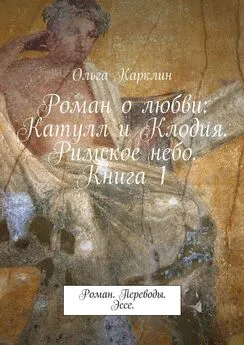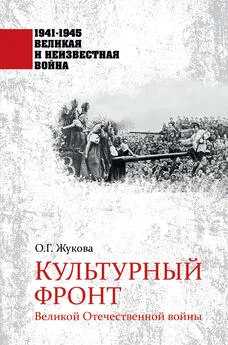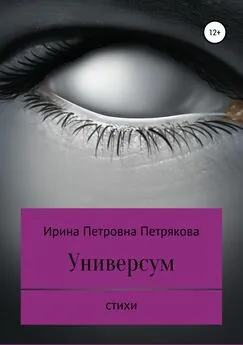Ольга Кафанова - Переводы Н. М. Карамзина как культурный универсум
- Название:Переводы Н. М. Карамзина как культурный универсум
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-00165-163-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Кафанова - Переводы Н. М. Карамзина как культурный универсум краткое содержание
Для филологов, культурологов, историков журналистики и художественного перевода, а также широкого круга читателей, интересующихся развитием отечественной культуры.
Переводы Н. М. Карамзина как культурный универсум - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Спасение приходит внезапно: умирающий герцог Ч*** отдает ключи от темницы своему племяннику графу Бельмиру, имя которого страдалице удалось скрыть. Освобождение от страшного заточения несчастная женщина получает из рук своих родителей. После выхода на свободу она обычные явления жизни начинает воспринимать и ценить как чудо: «Прохаживаясь в поле или в саду, на всяком шаге я останавливалась, чтобы во всей подробности рассматривать представлявшиеся зрению моему предметы. Я не могла насытиться рассматриванием цветов, плодов, дерев, зелени, облаков, восходящего и заходящего солнца, зари – все сие было для меня восхитительным и величественным зрелищем» (XV, 21).
В финале повести Жанлис граф Бельмир, считая своим долгом, загладить свою вину, предлагает бывшей узнице руку и сердце. Однако героиня после девятилетних нечеловеческих мук в подземелье навсегда излечивается от страсти, обретает утешение в вере и устраивает брак дочери с графом Бельмиром, своим прежним возлюбленным, из-за которого она и была заточена ревнивым мужем в подземелье.
Карамзин в этой вставной новелле увидел потенциальные возможности другой нравственно-эстетической интерпретации. Выпустив вступление, в котором героиня Жанлис заявляет о дидактических целях, он сочинил собственное предисловие, особенности которого наиболее заметны по контрасту с почти буквальным переводом 1782 г. Сравните:
«Каким образом опишу я вам злосчастные мои приключения, коих напоминание единое еще и до сих пор приводит меня в ужас! О, дочь моя и возлюбленные внучата! Прочтите оные со вниманием! И да возможет послужить вам плачевное сие повествование примером и наставлением поступать в жизни своей со всякою осторожностию. Что одно токмо принудило меня сделать сие справедливое начертание» 25 25 Новое детское училище, или Опыт нравственного воспитания обоего пола и всякого состояния юношества <���…>. Т. 2. СПб., 1792. С. 328.
.
«О, вы, которые любите замечать движения сердца человеческого и в рассматривании чувств его находите важнейшее и полезнейшее для себя упражнение! В жизни моей найдете вы для себя нечто примечания достойное – нечто такое, что может распространять ваши познания о сердце человеческом! По крайней мере естественная связь чувств и мыслей будет вам приятна. Вы не увидите совершенной картины, во всех частях оттененной кистию Рафаэлевою; вам представляется одно легкое начертание, но справедливое, во всех частях соразмерное – не карикатура. Снеситесь со своими опытами, наблюдениями, и вы конечно скажете: так!» (XIV, 145–146. Курсив мой. – О. К.).
Очевидно, что в этом вступлении Карамзин впервые наметил черты эстетики сентиментальной повести. Он выделил психологическую направленность: изучение человеческого сердца; поставил в центр внимания «идеальную» жизнь чувства; наконец, указал на момент незавершенности повествования в целом – вместо детального описания предложил, наоборот, не претендующий на исчерпывающую полноту набросок.
Изменение финала в переводе придало всей истории поэтическую тональность; Карамзин предложил иную развязку. Он психологически очень убедительно показав излечение героини после всего пережитого от всякой страсти: «изгнав уже давно из сердца ту страстную любовь, которая некогда была во мне столь сильна, не могла я даже и представить себе, как могут люди ей предаваться» (XV, 23). Однако хотя герцогиня и отказывается повторно выйти замуж, граф любит ее по-прежнему и поселяется рядом с нею в провинциальном уединении: «Будучи утешен дружбою, которую я ему оказывала, навсегда остался жить в Риме» (XV, 23). Таким образом, Карамзину удалось избежать рационалистической трактовки любовного сюжета и вместе с тем наметить главную идею многих своих будущих произведений – поэтизацию любви как смысла жизни, основы гармоничного существования человека.
В целом первые переводы из Жанлис были важным этапом в становлении Карамзина – переводчика и писателя. Некоторые пункты умеренно-просветительской программы Жанлис – понятие нравственного совершенствования личности, достигаемого в результате овладения своими страстями, внесословное истолкование добродетели, обращение к филантропии – совпадали с идеологией масонства, действенную сторону которого воспринял и молодой Карамзин. Совершенствуясь в передаче относительно внешних явлений лексики и фразеологии, он постепенно переключал свое внимание на внутренние проблемы сюжетообразования и характерологии. Истории из «Вечеров в замке» Жанлис лишь очень условно можно назвать «повестями», поскольку создавались они в рамках единого литературно-педагогического комплекса. Тем не менее, в последних частях переводного цикла ясно обозначилось желание Карамзина-переводчика усилить эмоционально-психологическую мотивировку поведения героев, подчас в ущерб дидактизму. «Деревенские вечера» не завершились «Историей герцогини Ч***». Карамзин добавил еще два рассказа, происхождение которых не вполне ясно: «Пустынник» и «Благодеяние». Э. Г. Кросс выдвинул гипотезу о принадлежности «Пустынника» самому Карамзину 26 26 Cross A. G . Karamzin’s first short story? // Essays in Russian History and Literature. Leiden: ed. L.H. Legters, 1971. P. 38–55.
. И хотя произведение может служить наиболее наглядным примером формирования жанра и стиля сентиментальной повести, эта атрибуция остается спорной.
Сам Карамзин, безусловно, рассматривал эти переводы как свое ученичество: он никогда не пытался издать их отдельно, переиздать (как, впрочем, и остальные свои переводческие опыты в «Детском чтении»). С циклом Жанлис хорошо коррелировало произведение Х. Ф. Вейсе (Weisse, 1726–1804) «Аркадский памятник. Сельская драма с песнями в одном действии» (1789). В нем также утверждалось важное для сентименталистов и просветителей понятие чувствительности, понимаемое как «склонность к таким чувствованиям, в которых есть нечто нравственное» 27 27 [ Дмитриев И. И .] Чувствительность и причудливость // Приятное и полезное препровождение времени. 1976. Ч. XI. С. 241. Подробнее см.: Орлов П. А. Русский сентиментализм. М.: Изд. Моск. университета, 1977. – 270 с.
. Наряду с этими специальными произведениями для юношеской аудитории Карамзин поместил в «Детском чтении для сердца и разума» сокращенный перевод-пересказ поэмы «Времена года», который имел решающее значение для распространения славы Томсона в России и одновременно воспринимался в значительной мере как оригинальное сочинение, где впервые отчетливо прозвучал культ природы 28 28 Левин Ю. Д. Английская поэзия и литература русского сентиментализма // От классицизма к романтизму. Из истории международных связей русской литературы. Л.: «Наука», 1970. С. 196–297.
.
Интервал:
Закладка: