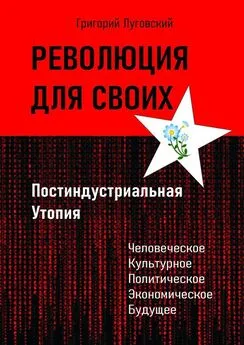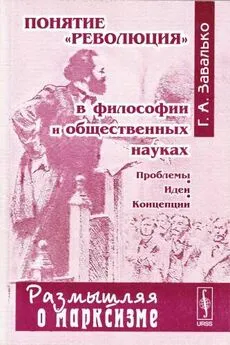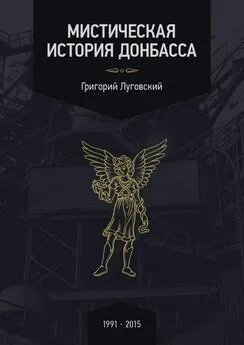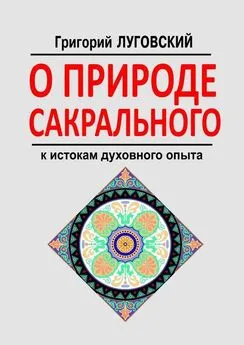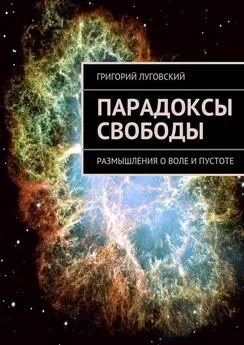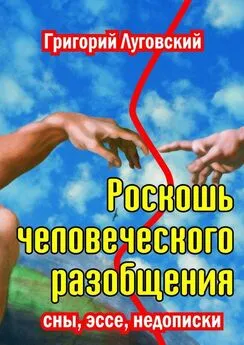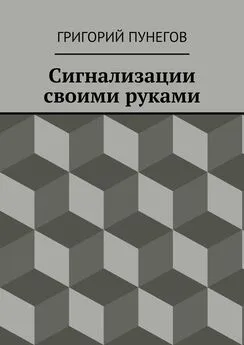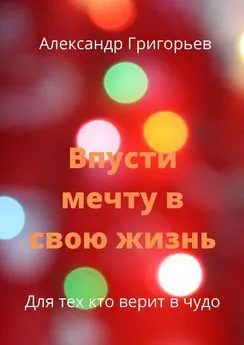Григорий Луговский - Революция для своих. Постиндустриальная Утопия
- Название:Революция для своих. Постиндустриальная Утопия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449885296
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Луговский - Революция для своих. Постиндустриальная Утопия краткое содержание
Революция для своих. Постиндустриальная Утопия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Конфигурация человеческой субъектности сложнее. С точки зрения Декарта, а за ним и мейнстримовой европейской философии нового времени, единственное, что мы знаем достоверно – существование себя как мыслящего субъекта. Наша фиксация внешнего бытия может быть под вопросом, поэтому та печка, от которой мы пляшем – Я сам. Я есть, поэтому я – точка отсчета на шкале. М. Мамардашвили считал, что центром, по отношению к которому определяет свое состояние человек, являются «вечно длящиеся акты, которые не считаются случившимися» , что примерно соответствует бытию. Все прочие субъекты и их бытие познаются нами в сравнении – по признакам подобия и различия. Представление о субъектности Другого рождается из человечности/эмпатии: Я узнаю Другого как субъекта по образу и подобию себя, но более активным чувством является неподобие.
Мы не только узнаем о существовании себя по мысли (декартовское «мыслю, значит – существую»), а и по делу. Проще говоря – по воле, ведь и мысль, и акт являются ее проявлениями. Чтобы ощущать жизнь, нужно не только созерцать ее (подход восточный, в духе буддистов и даосов), но и действовать – менять созерцаемый мир, чтобы убедить себя: «я есть сущий». В таком прочтении христианского самоуподобления богу преломился волюнтаристский характер европейской горячей культуры [2], и собственно христианское единобожие, где нет места смирению перед миром, а есть только смирение перед богом. Но если Я подобен богу и наделен свободной волей (что утверждает христианство), то «значит все можно». В этом понимании и начало учения о сверхчеловеке, и фобии Достоевского, и анархический оптимизм Штирнера.
1.2.1.2. Субъект и социальность
Социальность предполагает систему отношений, которую субъект принимает, отказываясь от части суверенитета. Такая форма связей реализуется не только человеком и даже не одними живыми существами. Взаимодействие системы и внесистемных элементов можно рассмотреть даже на примере любой науки. Здесь всегда есть набор фактов и набор теорий – схем, организующих разрозненные факты в работающую систему, «общество». Если какие-то факты не вписываются в прокрустово ложе схемы, тем хуже для них. Для познания такие факты пребывают в процессе становления – они еще не доросли до того, чтобы вписаться в схему, либо уже ее переросли, представляя собой зародыши новой схемы, которая появится в будущем. Факты, находящиеся в свободном движении, когда-нибудь организуются в новые схемы (прибегая к помощи разума ученого-новатора), либо берутся в орбиту власти старых, уже работающих схем (если схема может выиграть от этого объединения), Можно говорить даже о том, что все в мире состоит из схем и не подчиняющихся им фактов – феноменов. Входя в схему, феномен теряет долю своей субъектности, но приобретает некоторое благо – познаваемость.
Во всех своих проявлениях человек борется за то, чтобы оставаться собой, но это стремление вступает в противоречие с необходимостью в Других. Почти вся наша уникальная и сложная жизнь, как внешняя, так и внутренняя, выступает поиском баланса, качелями между эгоцентризмом и социальностью, условным материальным и духовным началом. Материальное (телесное) – минимальные границы субъектности, нарушение которых грозит физической гибелью. Это ядро субъектности, ставшее основанием, от которого можно оттолкнуться, если сил достаточно, или остаться как на надёжной платформе, если нет воли к действию. Для оттолкнувшихся от этого ядра все большую роль играет «духовное» – символический контур их субъектности, раскрываемый в социальных связях, причем выходящих за рамки общества как такового. Ведь любое познание есть процесс формирования общества из представлений о мире.
У нашей субъектности много уровней. Простейшие – биологический и психический. Невозможно рассматривать субъектность отдельно от своего тела (которое обладает собственным разумом, лишь изредка вступающим в контакт с сознанием) и от памяти, делающих нас именно нами, а не кем-то другим. Кроме этого есть социальный компонент (я работаю там-то, я умею и знаю то-то, меня знают как того-то), и чисто событийный (я тот, кто идет сейчас по тротуару), и правовой, или имущественный (у меня есть то-то). Любая субъектность состоит из набора индивидуальных черт, которые получены либо по факту рождения (наследственность, природа), либо выбраны сознательно (обучение, влияние среды).
Это же относится и к границам себя и других, которые являются величиной переменной. В человеческом мире границы субъектности распространяются еще и на вещи, имущество, территорию. «Я» стал множественным и иерархичным, а познание себя может оказаться достаточно сложной задачей, поскольку мы способны меняться, проявляя различные скрытые возможности под влиянием внешних воздействий и собственных решений.
Поэтому человека стоит рассматривать как ансамбль субъектностей, которым предопределено жить вместе. Тело и сознание, темперамент и увлечения, наш биологический и социальный статус – это «скованные одной цепью». Кто из них окажется сильнее, то влияние и будет доминировать в жизни субъекта, который, таким образом, является не единицей, а соотношением нескольких слагаемых. В этом важное отличие человека от животного – нам приходится договариваться, жить общиной уже внутри самих себя. И когда говорят о социальной природе человека, нужно в первую очередь иметь в виду эту нашу внутреннюю множественность, а не стремление к подчинению внешним общественным нормам.
1.2.1.3. Субъект или объект? Иерархия субъектностей
Где проходит граница между субъектом и объектом? Субъектность определяется силой, или компетентностью в любой сфере. Любой из нас, будучи в какой-то области искушенным, во многих других окажется менее субъектным. Так, боксер, севший играть в шахматы, скорее всего в рамках этой игры будет объектом, но на ринге он уже полноценный субъект.
Кроме «быть» можно еще и «казаться», «производить впечатление». Субъекты и объекты представляются таковыми сквозь призму воздействия на восприятие. Субъект в нашем восприятии отличается от объекта тем, что в его действиях мы усматриваем непредсказуемость. Поэтому и многие природные явления могут восприниматься как субъекты, если они сложны и непонятны. Но когда что-либо становится понятным (или кажется таковым), для восприятия оно обретает черты объекта.
Точно также субъект иногда может восприниматься другими – в силу разных причин, в том числе и мимикрии – в качестве объекта. Колония бактерий, пока не вызывает болезни, не проявляется как субъект, но стоит ей стать причиной недуга, как мы уже не можем игнорировать ее существование. Даже камень, который лежит на дороге и его приходится обходить, «ведет себя» как субъект, поскольку с ним нужно считаться. Собака, лающая на вас, более субъектна, чем собака, безразлично проходящая мимо. Поэтому и камень, и собака могут выступать для нас и как субъекты, и как объекты. Это же можно экстраполировать и на людей. Нас скорее замечают, если мы мешаем другим.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: