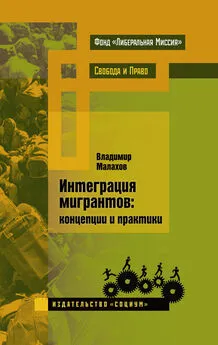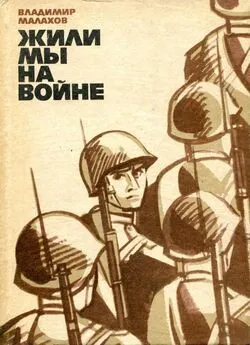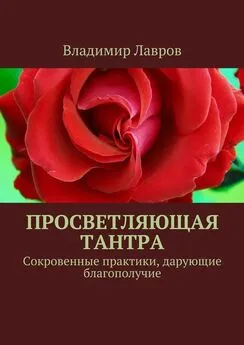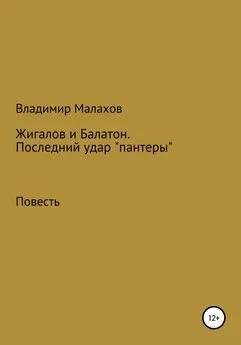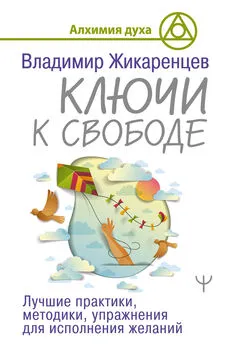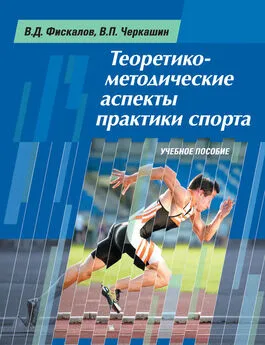Владимир Малахов - Интеграция мигрантов: концепции и практики
- Название:Интеграция мигрантов: концепции и практики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва, Челябинск
- ISBN:978-5-91603-614-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Малахов - Интеграция мигрантов: концепции и практики краткое содержание
Интеграция мигрантов: концепции и практики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Существует три источника массового притока в страны условного Севера (Запада) переселенцев из стран условного Юга (Востока).
Источник первый: демонтаж империй. После того как европейцы отказались от своих заморских владений (это произошло около 1960 г.), начинается приток населения из бывших колоний в бывшие метрополии. Это постколониальная миграция.
Источник второй: нехватка трудовых ресурсов в ситуации послевоенного экономического бума (1950–60-е). Непреднамеренным следствием присутствия «гостевых рабочих» стал массовый въезд в Европу иностранцев по линии воссоединения семей. Зачастую можно услышать недоуменный вопрос: почему такому въезду не был поставлен заслон? Ответ: потому что такой заслон был бы возможен только в условиях апартеида. Однако conditio sine qua non либерального государства – отношение к людям как к обладающим достоинством существам. Иностранные трудящиеся, приехавшие в страну по приглашению и отработавшие на ее благо пять-десять и более лет, имеют такие же основания на человеческое к себе отношение, как и местные трудящиеся. Как писал в свое время Карл Поланьи, «мнимый товар под названием “рабочая сила” невозможно передвигать с места на место, использовать, как кому заблагорассудится, или даже просто оставить без употребления, не затронув тем самым конкретную человеческую личность, которая является носителем этого весьма своеобразного товара». Мысль, что и говорить, не слишком близкая господствующему ныне сознанию. «Распоряжаясь “рабочей силой” человека, – продолжает Поланьи, – рыночная система в то же самое время распоряжается неотделимым от этого ярлыка существом, именуемым “человек”, существом, которое обладает телом, душой и нравственным сознанием» [6] Поланьи К. Великая трансформация: Политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейа, 2002. С. 87.
.
Источник третий: социальные катаклизмы, влекущие за собой появление беженцев. Здесь вновь заявляет о себе гуманитарный императив политики либеральных демократий. Подобные явления – элемент структуры, именуемой современным миром. Последний же представляет собой единую социально-экономическую систему, хотя и разделенную на две сотни «национальных государств». Это значит, что все, что происходит на периферии этой системы, связано – иногда косвенно, а иногда и прямо – с тем, что происходит в центре.
В самом деле, государства Севера довольно часто бывают непосредственно вовлечены в политические события в государствах Юга: в качестве патронов непопулярного режима или, напротив, в качестве сил, организующих государственный переворот, в качестве поставщиков оружия одной из воюющих сторон и т. д. Поэтому в новейшей истории постоянно возникали ситуации, когда допуск на свою территорию людей, боровшихся с неугодным Западу политическим режимом (например, сторонников иранского шаха после его свержения в 1979 г. или противников Саддама Хусейна в Ираке в 1980–90-е годы) был не чем иным, как моральным долгом западных держав. Не говоря уже о том, что гражданские войны в «развивающихся» странах часто случаются не без влияния центров силы в развитом мире. Например, война в Югославии в начале 1990-х годов стала последствием признания Германией суверенитета Словении и Хорватии. Прием Германией сотен тысяч хорватских беженцев был своего рода признанием ответственности страны за ее позицию по Югославии. Несколько миллионов беженцев из Афганистана и Ирака стали прямым следствием авиационных ударов 2002–2003 гг. и последующей оккупации этих стран войсками НАТО. И если события 2011 г. в Тунисе и Египте («арабская весна») были скорее результатом внутренних противоречий этих обществ, то беженцы из Ливии вряд ли бы устремились в Европу, если бы не натовские бомбардировки.
Не столь многочисленную, но тем не менее значимую группу мигрантов с Юга на Север представляют собой соискатели политического убежища [7] Отличие соискателей политического убежища (asylum seekers, Asylbewerber, compétiteur d’asile politique) от беженцев (refugees, Fluechtlinge, réfugié) заключается в том, что первые могут рассчитывать на постоянное жительство в стране, предоставившей искомый статус, тогда как вторые получают разрешение на временное пребывание до тех пор, пока условия, препятствующие их возвращению на родину, не изменятся. Счет людей обеих категорий, ходатайства которых венчаются положительным решением, идет от нескольких сот до нескольких десятков тысяч человек ежегодно – в зависимости от размеров населения. принимающего государства, а также того уровня моральных обязательств, которые берет на себя его руководство (см. приложение 1).
. Это активные борцы с тем или иным репрессивным режимом, которые были вынуждены покинуть свою страну и которых в случае отказа в убежище ждут пытки и, скорее всего, смерть. Прием соискателей политического убежища также считается моральным обязательством благополучных государств. К сожалению, на практике выполнение этого обязательства страдает большой долей избирательности, если не сказать лицемерия. Так, в годы холодной войны соискатели убежища из стран с левыми режимами (Куба, Польша до 1989 г. и т. д.) имели гораздо больше шансов его получить в западных странах, чем соискатели того же статуса из государств с правыми режимами (Чили при Пиночете, Турция при военных режимах и т. д.).
Итак, вопрос о приеме мигрантов – часть проблемы ответственности первого мира за то, что происходит на земном шаре.
Как сюда вписывается Россия (в годы холодной войны являвшаяся частью второго мира) – вопрос, который на нижеследующих страницах будет присутствовать лишь имплицитно.
Несколько слов о замысле и структуре этой книги.
Мы начинаем с обсуждения концептуальных вопросов. Критическому осмыслению подвергаются ключевые понятия – понятие «интеграция» в первую очередь. Логически интеграция представляет собой противоположность «дезинтеграции» и «сегрегации». «Интеграция мигрантов» в первом из данных контекстов означает такое включение новоприбывшего населения в существующее общество, которое не нарушает целостности последнего. Во втором из контекстов «интеграция мигрантов» предполагает, что принимающей стране удается избежать разделения общества – пространственно-географического, коммуникационного и культурно-символического – на изолированные друг от друга сообщества (или, выражаясь в других терминах, замыкания мигрантского населения в изолированных от местных жителей анклавах, в пресловутых мигрантских гетто).
Смысл слов, используемых для обозначения интересующих нас проблем, зачастую далек от ясности. Эта неясность иногда обусловлена различиями в национальных контекстах. Так, в Северной Америке до недавнего времени был в ходу термин «ассимиляция»; в американском и канадском контексте данный термин не сопровождался негативными коннотациями. Ассимиляция здесь не означала отказа от культурной идентичности, связанной со страной, в которой мигранты жили до прибытия в Новый свет. Однако под влиянием европейских дебатов термин «ассимиляция» впал в немилость, и там, где американские авторы говорили об ассимиляции мигрантов, они стали говорить об их интеграции. Вместе с тем, по убеждению многих критиков, сам термин «интеграция» имплицитно содержит в себе элемент ассимиляции. В поисках более нейтральных обозначений ряд авторов предложили употреблять термины «абсорбция», «включение», «инкорпорирование». Мы также будем прибегать к альтернативным терминам. Однако вряд ли имеет смысл полностью заменять ими термин «интеграция». Главное, что, используя этот термин, мы отдаем себе отчет в его многозначности и проблематичности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: