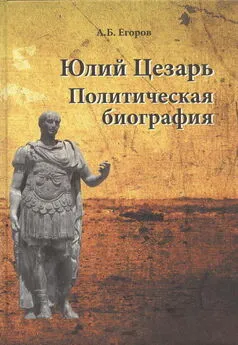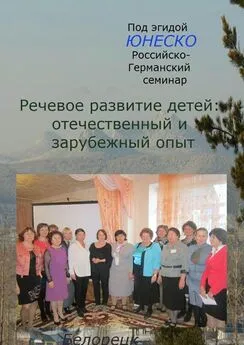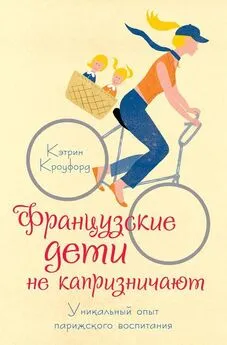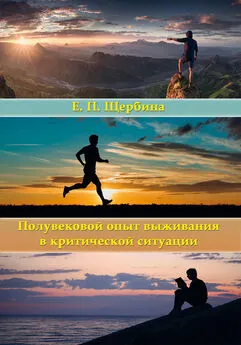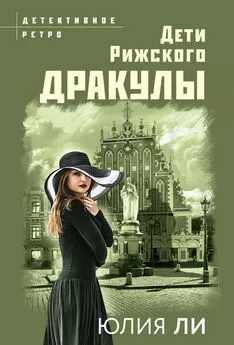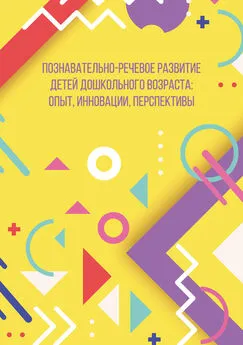Юлия Детинко - Политическая коммуникация: опыт мультимодального и критического дискурс-анализа
- Название:Политическая коммуникация: опыт мультимодального и критического дискурс-анализа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-7638-3468-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юлия Детинко - Политическая коммуникация: опыт мультимодального и критического дискурс-анализа краткое содержание
Политическая коммуникация: опыт мультимодального и критического дискурс-анализа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С точки зрения психологии для возникновения идентичности необходимо, чтобы личность реагировала на саму себя [Шипилов, 2008: 40], при этом осознание различия возможно уже на чувственном уровне, в то время как осознание сходства требует более развитой способности обобщения и концептуализации [Выготский, 1982], цит. по: [Уфимцева, 2011: 234].
Согласно теории дискурса Э. Лакло и Ш. Муфф [Йоргенсен, Филлипс, 2008], идентичности принимаются, отвергаются и обсуждаются в дискурсивных процессах, поскольку понятие «идентичность» представляет собой социальную категорию и может относиться к дискурсивной, а следовательно, и к политической практике. Ф. П. Казула отмечает, что в рамках дискурса производится не только мировоззрение, но и в некотором смысле сами акторы – поскольку их идентичности не являются изначально заданными и формируются политически, то есть через дискурсивную борьбу за означивание [Казула, 2009: 60]. При этом идентичность понимается как результат процесса называния, приписывания кому-либо или чему-либо некой сущности в рамках дискурсивной формации [Там же: 60]. Некоторые положения при понимании идентичности у Э. Лакло и Ш. Муфф, изложенные в работах М. В. Йоргенсен, Л. Дж. Филлипс, Ф. П. Казулы, коррелируют с особенностями категории «чужеродность», что позволяет нам рассматривать отношения чужеродности через способ конструирования дискурсивной идентичности:
•[субъект] приобретает свою идентичность посредством репрезентации в дискурсе;
•идентичность – это идентификация человека с субъектной позицией в структуре дискурса;
•идентичность конституируется дискурсивно посредством цепочек эквивалентности, в которых знаки отсортированы и связаны в цепочки, противопоставленные другим цепочкам. Эти цепочки определяют то, чем субъект является и чем не является;
•идентичность всегда относительна: субъект является чем-то, потому что он противопоставлен чему-то [Йоргенсен, Филлипс, 2008: 84].
Проанализировав данные положения с точки зрения конструирования чужеродности, мы вывели важные для нашего исследования принципы, а именно:
•один субъект идентифицирует другого как «чужого» одновременно с самоидентификацией;
•один субъект определяет другого как «чужого» посредством репрезентации в дискурсе;
•образ «чужого» конструируется дискурсивно через сравнение себя с другими и всегда зависит от позиции говорящего/пишущего.
В связи с этим возникает необходимость в дискурсивном маркировании принадлежности к «чужому». Поскольку осмысление «чужого» обусловлено самоидентификацией человека, В. И. Карасик обращает внимание на возможность выделения разновидностей чужих (врагов) применительно к тем типовым субъектам, которые ощущают для себя угрозу со стороны определенных социальных групп [Карасик, 2011: 240]. Анализируя сферу политического общения, А. В. Олянич делает акцент на то, что всякое объединение политиков, любая группа или партия, военная группировка или противоборствующий милитаристский клан ставят перед собой задачу выработать свою систему идентифицирующих признаков, которые бы позволяли отличать «своих» от «чужих» [Олянич, 2007: 288]. В контексте репрезентации чужеродности «дихотомия “свои и чужие” логически предполагает уточнение чужих как представляющих опасность либо не вызывающих опасения» [Карасик, 2011: 239].
Так, противопоставление «свой-чужой» концептуализируется в дискурсе при помощи четырех логико-когнитивных способов:
•идентификации как разграничения Добра и Зла в соответствии с представлениями идентифицирующего («Ты был мне другом, но теперь ты мой враг»);
•атрибуции или сближения по свойствам («враг, который имеет ряд отрицательных характеристик» – «друг, который имеет ряд положительных характеристик»);
•стереотипизации («враг, потому что дружит с моим врагом», «враг, потому что так выглядят все враги»);
•установления ассоциативных связей («враг, потому что с Запада, а все на Западе – враги») [Баженова, Лапчева, 2003: 16–18].
В целом оппозиция «свой-чужой» и категория «чужеродность» представлены довольно ярко как в отечественной научной мысли, так и в зарубежных исследованиях. Необходимо отметить работы в области межкультурной коммуникации и этнолингвистики: [Гришаева, 2003а, 2003б; Донец, 2002; Кашкин, 2004; Куликова, 2004а, 2004б, 2009; Леонтович, 2005; Олянич, 2003, 2007; Пивоев, 1998; Тер-Минасова, 2007; Цивьян, 2002, 2009; Maletzke, 1996; Roth, 2003]; когнитивистики, психолингвистики, лингвокультурологии, социолингвистики и теории коммуникации: [Балясникова, 2003; Вайнрих, 1987;
Вальденфельс, 1995, 1999; Выходцева, 2006; Григорьева, 2010; Захарова, 1998; Красных, 2003; Лотман, Успенский, 1982; Санцевич, 2002; Сахно, 1991; Сорокин, Марковина, 1988; Степанов, 2004; Якимович, 2003; Gudykunst, 1998; Sego, 2001]; прагмалингвистики: [Андрющенко, 2013; Иссерс, 1997, 2006; Иссерс, Рахимбергенова, 2007; Самарина, 2007; Паршина, 2007; Шейгал, 1998, 1999, 2000, 2003; Dijk, 1997а; Wodak, 1997, 2011; The discursive construction…, 2009]; лингвистики: [Михалева, 2009; Пеньковский, 1989]; критического дискурс-анализа: [Hall, 2006; Krzyzanowski, Wodak, 2009; Riggins, 1997] и других исследователей.
Помимо термина «чужеродность» в литературе встречаются также понятия «отчуждение» (Ю. М. Лотман, О. А. Косова, А. Б. Пеньковский, М. Н. Петроченко, В. М. Пивоев, Б. А. Успенский), «алиенация» (Т. Н. Астафурова, А. В. Олянич, А. Б. Пеньковский), «чуждость» (Б. Вальденфельс, Е. П. Захарова, О. Н. Паршина,), «другость» (Е. Н. Шапинская), в иностранных источниках наиболее часто можно увидеть термин otherness (P. Chilton, Т. A. van Dijk, C. Schäffner, L. P. Sego), реже употребляется термин foreignness (R. Wodak), otherization (A. Holliday, M. Hyde, J. Kullman).
Функционально-семантически данные термины можно разделить на две группы – понятия, реализующие действие («чужеродность», «отчуждение», «алиенация», otherization), и понятия, актуализирующие признак («чужеродность», «чуждость», otherness, foreignness). В нашем исследовании в качестве рабочего мы принимаем термин «чужеродность», основываясь на том, что чужеродность предполагает не только выявление, но и интерпретацию маркеров «чужого». Термин «чужеродность» охватывает и статическую, и динамическую составляющие отношения к «чужим», что значительно расширяет функциональный потенциал данного термина.
В основе политического дискурса лежит оппозиция «свой-чужой», поэтому «содержание политической коммуникации на функциональном уровне можно свести к трем составляющим: формулировка и разъяснение политической позиции (ориентация), поиск и сплочение сторонников (интеграция), борьба с противником (агональность) <���…>. Эта функциональная триада проецируется на базовую семиотическую оппозицию политического дискурса “свои-чужие”: идентификация есть не что иное, как идентификация агентов политики (кто есть кто? где свои и где чужие?), интеграция – сплочение “своих”, агональность – борьба против “чужих” и за “своих”» [Шейгал, 2000: 112].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: