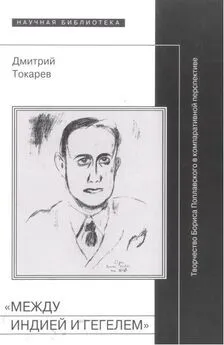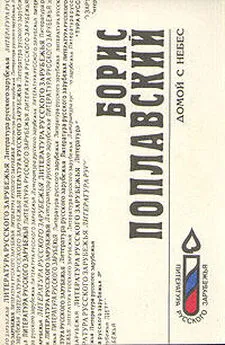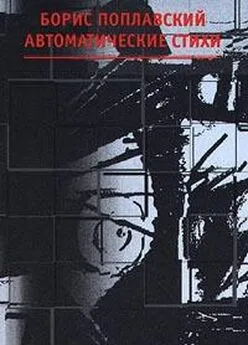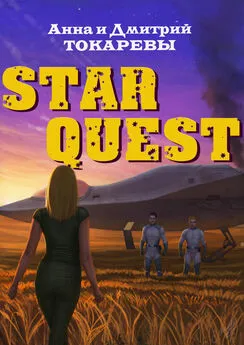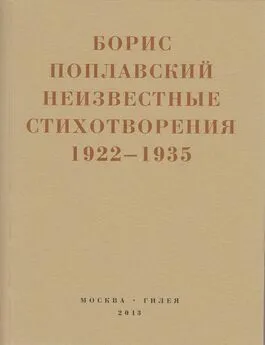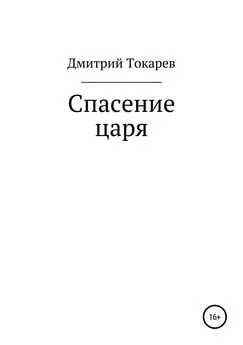Дмитрий Токарев - «Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе
- Название:«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2011
- Город:Ммосква
- ISBN:978-5-86793-828-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Токарев - «Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе краткое содержание
Борис Поплавский (1903–1935) — один из самых талантливых и загадочных поэтов русской эмиграции первой волны. Все в нем привлекало внимание современников: внешний облик, поведение, стихи… Худосочный юноша в начале своей парижской жизни и спустя несколько лет — настоящий атлет; плохо одетый бедняк — и монпарнасский денди; тонкий художественный критик — и любитель парадоксов типа «отсутствие искусства прекраснее его самого»; «русский сюрреалист» — и почитатель Лермонтова и блока… В книге Дмитрия Токарева ставится задача комплексного анализа поэтики Поплавского, причем основным методом становится метод компаративный. Автор рассматривает самые разные аспекты творчества поэта — философскую и историческую проблематику, физиологию и психологию восприятия визуальных и вербальных образов, дискурсивные практики, оккультные влияния, интертекстуальные «переклички», нарративную организацию текста.
«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Увидев однажды на Монпарнасе чем-то поразившую его воображение дымовую трубу, Де Кирико делает этот объект (и его эквивалент — башню) одним из своих излюбленных, вновь и вновь фиксируя образ трубы на своих полотнах. Этот образ имеет, скорее всего, эйдетическую природу, поскольку художник «видит» его так же четко, как он видел его в реальности. Холст здесь играет роль однородного экрана, на который проецируется эйдетический образ. Труба в акте эйдетического вспоминания предстает как чистая форма без значения, как «пустой» знак, лишенный и означающего (его материальный субстрат, доступный чувственному восприятию, оказывается иллюзией), и означаемого. Можно было бы сказать, пользуясь терминологией Шеллинга, что труба является «голым» образом, но добавить при этом, что этот образ лишен бытия или, точнее, обладает лишь иллюзорным бытием.
Воплощенный в картине эйдетический образ становится полноценным иконическим знаком; но на этом художник не останавливается: картина конструируется им путем соположения этого образа (трубы) с другими, гетерогенными ему образами (например, замком в Ферраре, как на картине «Тревожащие музы»). В результате изображение на картине начинает восприниматься как единый «сложный» образ, как «большая конструкция», каждый элемент которой автономен по отношению к другим элементам, но обретает значение лишь в качестве составной части единого «сверхзнака». Для Де Кирико проблема образа была проблемой метафизической; метафизическая живопись шла, по словам Е. Таракановой, «путем обновления всей образной системы не через изобретение новых форм, а через поиск нового угла зрения, позволяющего увидеть знакомые объекты в необычном качестве, вне контекста их обыденного существования» [40]. «Не может быть хорошего искусства без хорошей метафизики» [41], — записывает Поплавский в мае 1929 года. В главе «Метафизика образа: Поплавский и Джорджо Де Кирико»показывается, на примере стихотворения «Римское утро», что способ отбора и соположения образов, демонстрируемый Поплавским, может быть соотнесен с методом Де Кирико.
Выше я приводил фразу Поплавского о том, что искусство рождается из разговора музыки с живописью. В свое определение поэтического творчества Поплавский добавляет еще один элемент — философию: «Поэзия создается из музыки, философии и живописи. То есть от соединения ритма, символа и образа» ( Неизданное , 161). Нетрудно разглядеть в этой дефиниции влияние философии искусства Шеллинга. Во-первых, Поплавский, вслед за философом-романтиком и вопреки Платону, считает поэзию искусством высшего порядка; он мог бы подписаться под словами Шеллинга, что она есть «созидательница идей» и «источник» всякого искусства [42]. Сравнивая живопись и поэзию, Шеллинг пишет:
Всякое искусство есть непосредственное подобие абсолютного продуцирования или абсолютного самоутверждения; только изобразительное искусство не позволяет этому творчеству быть явленным в качестве чего-то идеального, но посредством чего-то другого и, следовательно, в качестве чего-то реального. Напротив, поэзия, будучи по существу тем же самым, что и изобразительное искусство, дает этому абсолютному познавательному акту проявиться непосредственно как познавательному акту и есть поэтому более высокая потенция изобразительного искусства, поскольку оно еще сохраняет в самом отображении природу и характер идеального, сущности, общего. То, посредством чего изобразительное искусство выражает свои идеи, есть нечто само по себе конкретное; то, посредством чего словесное искусство выражает свои идеи, есть нечто само по себе общее, т. е. язык. Поэтому поэзии по преимуществу даровано имя поэзии, т. е. созидания , ибо ее творения явлены не как бытие, но как продуцирование. Вот почему поэзию можно рассматривать как сущность всякого искусства, приблизительно так же, как в душе можно усмотреть сущность тела [43].
Во-вторых, Поплавский делает особый акцент на ритме, который, согласно Шеллингу, представляет музыкальный элемент в музыке [44]:
Ритм, взятый в своей абсолютности, есть вся музыка или обратно: вся музыка и т. д.; ибо ритм тогда непосредственно заключает в себе другое единство и через самого себя есть мелодия, т. е. вся целостность [45].
В-третьих, философия трактуется им как наука символическая, что свидетельствует о внимательном чтении «Философии искусства», где арифметика называется аллегоричной, геометрия схематизирующей и философия символичной. Цветан Тодоров поясняет, что для символа в понимании Шеллинга характерна «нетранзитивность символизирующего», то есть символ не только значит, но и существует. При подобном подходе «экстенсионал понятия символ совпадает с экстенсионалом понятия искусство или, по крайней мере, с сущностью искусства» [46]; первым же материалом и необходимым условием всякого искусства является, по Шеллингу, мифология [47]. Вот как Шеллинг формулирует «требование абсолютного художественного изображения»:
…изображение под знаком полной неразличимости, т. е. именно такое, чтобы общее всецело былоособенным, а особенное в свою очередь всецело былообщим, а не только обозначало его. Это требование поэтически выполняется в мифологии. Ведь каждый ее образ должен быть понят как то, чт оон есть, и лишь благодаря этому он берется как то, что он обозначает. Значение здесь совпадает с самим бытием, оно переходит в предмет, составляет с ним единство. Как только мы заставляем эти существа нечто обозначать , они уже сами по себе перестают быть. Однако реальность составляет у них одно с идеальностью, и потому если они не мыслятся как действительные, то разрушается и их идея , понятие о них. Их величайшую прелесть составляет именно то, что, хотя они просто суть безотносительно к чему бы то ни было, абсолютные в себе самих, все же сквозь них в то же время неизменно просвечивает значение. Нас, безусловно, не удовлетворяет голое бытие, лишенное значения , примером чего может служить голый образ, но в такой же мере нас не удовлетворяет голое значение; мы желаем, чтобы предмет абсолютного художественного изображения был столь же конкретным и подобным лишь себе, как образ, и все же столь же обобщенным и осмысленным, как понятие. В связи с этим немецкий язык прекрасно передает слово «символ» выражением «осмысленный образ» (Sinnbild) [48].
Шеллинг не мыслит искусства без мифологии, и если художник не хочет использовать уже имеющиеся мифы, то он сам создает свою мифологию. Создав целую мифологию эмигрантского «парижского подземелья» [49]и поместив в ее центр такую символическую фигуру, как Аполлон Безобразов, Поплавский реализовал на практике установку философа. При этом «чужие» мифы находили в этой мифологии свое место: впечатляющим примером адаптации мифа о путешествии к Южному полюсу можно назвать отвергнутый впоследствии вариант финала «Аполлона Безобразова», анализируемый в главе «Мистика „таинственных южных морей“: „следы“ Артюра Рембо и Эдгара По в первом варианте финала романа „Аполлон Безобразов“».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: