Юрий Алексеев - Пути в незнаемое. Сборник двадцатый
- Название:Пути в незнаемое. Сборник двадцатый
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Алексеев - Пути в незнаемое. Сборник двадцатый краткое содержание
Очередной выпуск сборника «Пути в незнаемое» содержит очерки о поиске в самых различных сферах современной науки. Читатель найдет в нем рассказы о новом в генетике, биологии, истории, физике, археологии, агротехнике, медицине… А в числе авторов, как всегда, новые имена, с новыми своими путями в жанре научно-художественной литературы, с оригинальным, нетрадиционным подходом к освещению различных аспектов и объектов научного творчества.
Пути в незнаемое. Сборник двадцатый - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как впервые обнаружил (в ранней работе о футуризме) К. И. Чуковский, структура стихотворения Хлебникова навеяна замечательным переводом «Песни о Гайавате» Лонгфелло, сделанным в конце XIX века Буниным. Хлебников, вероятно, прочитал эту поэму, несколько раз тогда переиздававшуюся, еще в отрочестве.
Перечисляя пробелы, которые надо бы заполнить в русской словесности, Хлебников писал, что в ней «нет творения или дела, которое выразило бы дух материка и душу побежденных туземцев, подобного «Гайавате» Лонгфелло. Гайавата — один из главных образов его прозаической «13 танки» («…Я та же, какой была при Гайавате… Я вижу сейчас глаза Гайаваты… Так у меня глаз Гайаваты… Наверное проголодался… Накормим и Гайавату… ‹Так, значит, он прямо из тех собраний индейцев› в красных и синих орлиных перьях, с высокими луками, собравшимися у костра, и, сев величаво, предлагал трубку самому солнцу».) В последние годы жизни Хлебников предлагал, основав «мировое правительство украшения земного шара памятниками», «украсить Монблан головой Гайаваты». В стихах эта мечта осуществляется в «Ладомире»:
И умный череп Гайаваты
Украсит голову Монблана.
В черновиках «Ладомира»есть двустишие, где Гайавата рифмуется с великим древнеиндийским математиком Арьябхатой:
Туда, где Гайавата,
Иди, Ариабхата..
То, что образ Гайаваты постоянно вновь возникал перед Хлебниковым, подтверждает и сопоставление «Бобэоби…» с «Песней о Гайавате».
Начало стихотворения чрезвычайно близко к таким строкам «Песни о Гайавате», как:
«Мини-вава!» — пели сосны,
«Медвэй-ошка!» — пели волны.
Согласно словарику использованных в поэме американских индейских слов, который был приложен к ее тексту Лонгфелло и переведен Буниным (со свойственным ему стремлением к точности проверившим этот словарик), первое звукосочетание означает «шорох деревьев», второе — «плеск воды». Так построено и стихотворение Хлебникова «Гроза в месяце Ау», передающее звуки грозы:
Пупупопо! Это гром…
Кажется, что с таким построением можно соотнести и «Звукопись весны» Хлебникова, где есть строка «Пучь и чапи-черный грач», напоминающая многочисленные строки из «Гайаваты», в которых сопоставлено индейское название птицы с ее русским (в оригинале, разумеется, английским) обозначением:
…Цапля сизая, Шух-шух-га
И глухарка, Мушнодаза.
Со стихотворениями Хлебникова бунинский перевод «Гайаваты» перекликается и теми строками, где говорится о звуках, издаваемых птицей или кузнечиком:
…Ворковал Омими, голубь…
…Пел кузнечик. Па-кок-кина…
В стихотворении «Кузнечик», принадлежащем к той же группе «мелких вещей», что и «Бобэоби…», Хлебников треск, издаваемый кузнечиком, передает еще и звуковой формой соответствующих строк стихотворения (ее сам Хлебников анализировал дважды, отмечая закономерное пятикратное повторение одних звуков — к, у, л, р и шестикратное — других: з ). Звучание сопоставленной поэтом с кузнечиком синицы, которую в диалектах называют также и «кузнечиком», и «зинзивером», Хлебников в этом стихотворении обозначил звукоподражанием пинь, пинь, пинь и глаголом тарарахнуть (согласно русскому переводу Брема, который читал Хлебников, звуки этой птицы можно передать как предостерегающее «террр» и испуганное «пинк-пинк»):
Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил.
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
— Пинь, пинь, пинь! — тарарахнул зинзивер.
О. лебедиво!
О, озари!
Лебедиво — производное от лебедь (как огниво от огонь ) и от встречающегося у Хлебникова прилагательного лебедивый (от лебедь, как спесивый от спесь ).
Хлебников был, как и его отец, профессиональным орнитологом, опубликовавшим еще в студенческие годы научные статьи по биологии и зоологии. По свидетельству Бенедикта Лившица, слышавшего чтение Хлебникова, тот «уходил искать «мудрость в силке», в стихию птичьей речи, воспроизводя ее с виртуозностью, о которой не дает никакого представления «нотная запись». Под последней Бенедикт Лившиц имел в виду передачу птичьих голосов посредством русских звуков, например: пиньпиньпинь и т. п. Уже после «Кузнечика» Хлебников на писал стихи, почти целиком состоящие из подражаний голосам птиц, — «Мудрость в силке» и главу («плоскость») из «Зангези».
В коротком стихотворении «Кузнечик» встречаются элементы разных языков или языковых способов, используемых или изобретаемых Хлебниковым: русские или, шире, славянские новообразования ( крылышкуя от крылышко, золотописьмо, лебедиво ), слова русских говоров ( веры, зинзивер, кузнечик как название синицы), звукоподражание ( пиньпиньпинь ).
11
Хлебников потом не раз перечислял все языки, использовавшиеся им в разное время или в разных вещах одной сложной по композиции вещи («сверхповести» или «заповести»). Первым по времени был язык русских и славянских новообразований. Позднее Хлебников в автобиографической заметке «Свояси» так охарактеризует подход к этим занятиям в своей молодости: «Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращенья всех славянских слов, одно в другое — свободно плавить славянские слова, вот мое первое отношение к слову».
В статье «Курган Святогора», написанной в период увлечения этой ранней лингвистической программой, Хлебников излагает ее с помощью слов древнерусского и южнославянского происхождения ( дебло́ — «ствол дерев», откуда и хлебниковское «Домирное дебло́ Мирами зацвело»): «И не должно ли думать о дебле, по которому вихорь-мнимец емлет разнотствующие по красоте листья — славянские языки и о сплющенном во одно, единый, общий круг, круге — вихре — общеславянском слове».
Посылая в марте 1908 года 14 своих стихотворений поэту-символисту Вячеславу Ивановичу Иванову, Хлебников а сопроводительном письме писал ему: «Читая эти стихи, я помнил о «всеславянском языке», побеги которого должны прорасти толщи современного, русского». В статье «Учитель и ученик» он говорит о своем интересе к хорватскому проповеднику общеславянского языка Крижаничу. Для стихов Хлебникова этого времени характерно необычно широкое использование всех возможных комбинаций русских и других славянских корней с русскими же и другими славянскими суффиксами и приставками: снег-ич, люб-оч, вид-язь, уз-ыв-н-о-ст-ынь, бес-тешный, до-вещный, вер-ошь; жар-ошь, зна-юн и т. п.
Кроме многих сотен таких новообразований, употребленных в стихах Хлебникова, сохранились и длинные их списки в его рукописях, относящихся примерно к 1908 году, в частности в толстой тетради, целиком заполненной такими списками (напечатаны только отдельные их примеры). В тетради новообразования расположены гнездами: орел, орлиный, орлиности, орличий, орляной, безорлый, орлот, орлунья, орлятки и т. п. Обычно записаны и сочетания с этими словами, иногда уже образующие стихотворные строчки. Знание языка предполагает умение свободно сочетать корни, приставки и суффиксы. Ребенок, овладевая языком, попутно образует и множество новых слов. У большинства взрослых, даже и у тех, кто занимается литературой, умение творить новые слова с годами ослабевает. Современная культура не поощряет такого занятия. Если новые названия требуются, их часто образуют путем сокращения уже существующих слов (ЭВМ) или заимствования из других языков (компьютер).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


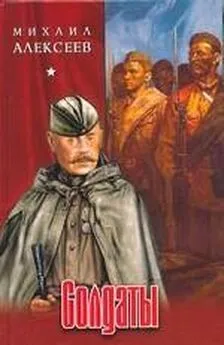



![Алесь Адамович - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/1087691/ales-adamovich-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazy.webp)


![Юрий Рост - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/1095277/yurij-rost-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazyvayut.webp)
