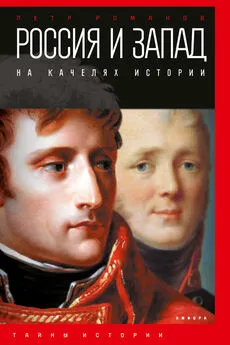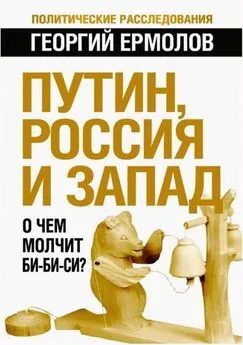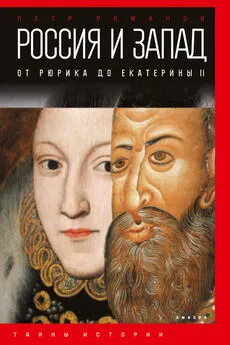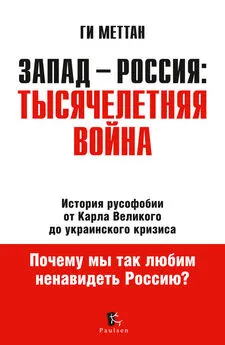Петр Романов - Россия и Запад на качелях истории. От Павла I до Александра II
- Название:Россия и Запад на качелях истории. От Павла I до Александра II
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Гельветика56739999-7099-11e4-a31c-002590591ed2
- Год:2015
- Город:С-Петербург
- ISBN:978-5-367-02793-8, 978-5-367-03835-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Романов - Россия и Запад на качелях истории. От Павла I до Александра II краткое содержание
Книга писателя, публициста и политического обозревателя Петра Романова посвящена непростым отношениям России и Запада в период между коротким царствованием Павла I и эпохой реформ Александра II.
Россия и Запад на качелях истории. От Павла I до Александра II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А раз так, то многие упреки, которые на Западе привычно адресуют русским, справедливо переадресовать самой Европе – именно она в течение длительного времени поставляла России управленцев.
В случае успешного царствования вопрос о происхождении «менеджера» подданных Российской империи волновал мало. Екатерина II воспринималась как истинно русская императрица, действующая в национальных интересах России. Зато неудачникам, вроде последнего российского императора, об их иностранном происхождении, естественно, тут же напоминали. Во время Первой мировой войны немалое число российских обывателей искренне считало, что неудачи на германском фронте во многом объясняются предательством, «свившим гнездо» в немецкой семье царя.
Николай I сумел стать самым русским иностранным менеджером в истории Российского государства. Немецкая кровь и английская няня, конечно, сыграли свою роль в формировании столь незаурядной личности, но оказалось, что и русская кормилица – это тоже немало.
На перекрестке национальных интересов: декабристам налево, императору направо, народу прямо
Русская история считает декабристов и Николая I антиподами. С этим согласны как монархисты, так и последователи «культа пяти повешенных». Между тем два столь разных плода имеют схожую генетику, да и выросли на одной и той же ветви, что в жизни случается нечасто.
Николай точно так же, как и декабристы, горячо переживал трагические события 1812 года, рвался в армию и лишь по настоятельной просьбе Александра I, по сути равносильной приказу, был вынужден остаться дома. В своих мемуарах Николай так пишет об этом времени и чувствах, которые охватили его и брата Михаила:
Наконец настал 1812 год; сей роковой год изменил и наше положение. Мне минуло уже 16 лет, и отъезд государя в армию был для нас двоих ударом жестоким, ибо мы чувствовали сильно, что и в нас бились русские сердца и душа наша стремилась за ним!
Сомневаться в искренности приведенных слов, зная дальнейшую судьбу Николая Павловича, оснований нет. Патриотические (или националистические) чувства будущего императора-немца, ощутившего себя русским, питались из того же самого источника: война 1812 года потрясла и на короткое время объединила все русское общество. Снизу доверху, от крестьянской до царской семьи.
Образование Николая Павловича также идентично тому, что получили лидеры декабристов. Будущие политические оппоненты были воспитаны одними и теми же иностранными гувернерами. Не только воспитание, но и его карьера до декабря 1825 года была точно такой же, на какую могли надеяться очень многие русские офицеры-гвардейцы из знатных дворянских родов.
О реальной жизни российских низов великий князь знал, конечно, понаслышке, как, впрочем, и большинство декабристов, но о буднях армии и придворного мира был осведомлен прекрасно. Более того, многих будущих декабристов Николай хорошо знал лично, общаясь с ними то на военных маневрах, то в приемной императора, то в одном и том же кружке гвардейских офицеров. Поэтому его оценки, содержащиеся в мемуарах, носят не только политический характер – в них легко увидеть шлейф старых сугубо личных (добрых или дурных) отношений. Он принадлежал к их кругу, был одним из них.
Если говорить о логике действий императора 14 декабря 1825 года, в ней нет ни личной корысти, ни предвзятости. И в этом он также похож на своих политических противников. Шла борьба принципов, а не личностей, хотя по обе стороны баррикад находились люди безусловно колоритные и не лишенные страстей и амбиций.
«Ничего личного» – мог с чистой совестью сказать Рылеев, объясняя Каховскому накануне восстания, как лучше проникнуть во дворец, чтобы убить Николая Павловича. «Ничего личного» – мог с чистой совестью сказать Николай Павлович, утверждая смертный приговор Рылееву и Каховскому.
Четырнадцатого декабря, выстроившись в каре около Медного всадника, декабристы поставили на кон, как в рулетку, последнюю монету из наследства Петра Великого – и проиграли.
Все тот же Александр Герцен задавался вопросом:
Отчего битва… была именно на этой площади, отчего именно с пьедестала этой площади раздался первый крик русского освобождения, зачем каре жалось к Петру I – награда ли это ему?… или наказание? Пушки Николая были равно обращены против возмущения и против статуи; жаль, что картечь не расстреляла медного Петра…
В 1825 году правящая элита Российской империи подошла к историческому перекрестку, где разделилась. Одни проследовали налево, сначала на Сенатскую площадь, а оттуда на каторгу в Сибирь, другие вслед за Николаем пошли направо – укреплять пострадавшие 14 декабря бастионы самодержавия.
Простой обыватель к схватке аристократов отнесся в целом равнодушно. Народ не заметил исторического перекрестка, а потому по инерции проследовал прямо.
Лишь некоторое время спустя у себя дома он неожиданно обнаружил, что к двуногой дедовской табуретке, на которой ему испокон веку положено было сидеть, сохраняя равновесие, власть (под впечатлением 14 декабря) для большей устойчивости приделала третью ножку.
В дополнение к двум старым государственным устоям – православию и самодержавию – русскому народу официально даровали еще и народность.
Три кита новой национальной идеи: непорочная Россия, гнилой Запад и свобода после смерти
То, что Николай метил не только в декабристов, но и в Петровские реформы, едва ли не первым из иностранцев понял французский роялист Астольф де Кюстин.
В своей книге «Россия в 1839 году» он пишет:
Всю силу своей воли он направляет на потаенную борьбу с тем, что создано гением Петра Великого; он боготворит сего великого реформатора, но возвращает к естественному состоянию нацию, которая более столетия назад была сбита с истинного своего пути и призвана к рабскому подражательству… чтобы народ смог произвести все то, на что способен… его национальный дух во всей его самобытности.
Сам комментарий можно оставить на совести француза, главное другое: де Кюстин очень точно почувствовал то, о чем император предпочитал вслух не говорить, – в основе нового курса лежало жесткое идейное противоборство Николая I с Петром I. Бой с тенью великого реформатора «идеальный самодержец» вел до последнего своего вздоха.
Николаю Павловичу книга де Кюстина не понравилась. Рассказывают, что император в раздражении даже швырнул ее на пол, воскликнув: «Моя вина: зачем я говорил с этим негодяем!»
На самом деле книга не лишена достоинств. Наряду со множеством банальностей и очевидных нелепостей, часто присущих книгам путешественников, не успевших подробно изучить новую для себя страну (во Франции, например, до сих пор веселятся по поводу глубокомысленного замечания одного англичанина о том, что в «Блуа все женщины рыжи и сварливы»), в записках де Кюстина можно найти и свежий взгляд человека со стороны, что очень ценно. Автор, например, сумел каким-то непостижимым образом расслышать посреди полнейшей, почти кладбищенской тишины Николаевской эпохи шум надвигающейся бури. Де Кюстин писал:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: