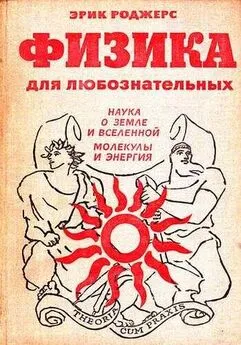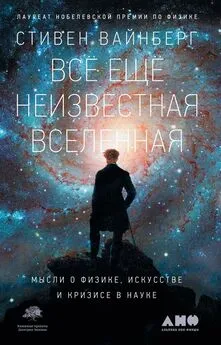Стивен Вайнберг - Всё ещё неизвестная Вселенная. Мысли о физике, искусстве и кризисе науке
- Название:Всё ещё неизвестная Вселенная. Мысли о физике, искусстве и кризисе науке
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Альпина нон-фикшн
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:9785001392125
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стивен Вайнберг - Всё ещё неизвестная Вселенная. Мысли о физике, искусстве и кризисе науке краткое содержание
Лауреат Нобелевской премии Стивен Вайнберг делится своими взглядами на захватывающие фундаментальные вопросы физики и устройства Вселенной. При этом ему удается не ограничиваться узкими дисциплинарными рамками и не прятаться от политических тем, среди которых нецелесообразность пилотируемых космических полетов, проблемы социального неравенства и важность поддержки большой науки.
Эта книга издана в рамках программы «Книжные проекты Дмитрия Зимина» и продолжает серию «Библиотека «Династия». Дмитрий Борисович Зимин — основатель компании «Вымпелком» (Beeline), фонда некоммерческих программ «Династия» и фонда «Московское время».
Программа «Книжные проекты Дмитрия Зимина» объединяет три проекта, хорошо знакомые читательской аудитории: издание научно-популярных переводных книг «Библиотека «Династия», издательское направление фонда «Московское время» и премию в области русскоязычной научно-популярной литературы «Просветитель».
Подробную информацию о «Книжных проектах Дмитрия Зимина» вы найдете на сайте
.
Переводчик Сергей Чернин
Научный редактор Дмитрий Баюк
Редактор Антон Никольский
Руководитель проекта И. Серёгина
Корректоры Е. Чудинова, С. Чупахина
Компьютерная верстка А. Фоминов
Дизайн обложки А. Бондаренко
© Steven Weinberg, 2018
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2020
© Электронное издание. ООО «Альпина Диджитал», 2020 Вайнберг С. Всё ещё неизвестная Вселенная. Мысли о физике, искусстве и кризисе науке / Стивен Вайнберг; Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 2020.
ISBN 978-5-0013-9212-5
Всё ещё неизвестная Вселенная. Мысли о физике, искусстве и кризисе науке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так что вовсе не обязательно, чтобы в тексте о физике неподготовленному читателю было все понятно. Уважать читателей — вот что важно. Не вводить их в заблуждение, что, не будь они такими бестолковыми, им все было бы ясно, или что непонятность — это признак глубины ума. В предисловии к книге «Первые три минуты» я объяснял, что «…когда юрист пишет для широкой публики, он предполагает, что она незнакома, например, с французским законодательством или с законом против пожизненной ренты, но из-за этого он не думает о публике слишком плохо и в то же время не снисходит до ее уровня… Читатель представляется мне в облике ловкого старого адвоката, который не умеет говорить на моем языке, но который, по крайней мере, надеется услышать несколько убедительных аргументов, прежде чем составит собственное мнение».
В книге «Первые три минуты» я впервые применил прием двухуровневого текста. Там есть самодостаточный основной текст, в котором нет формул (ну, почти нет). И есть техническое приложение, которое необязательно читать для понимания основного текста. В приложении я пытаюсь объяснить хотя бы те математические тонкости, которые можно изложить на уровне средней школы. Тот же прием я использовал позже при написании книги «Открытие субатомных частиц», а также в своей последней книге «Объясняя мир». Эти приложения адресованы отчасти мне самому — там содержится то, что я захотел бы прочитать, если бы был подростком.
Одна из причин, привлекающих ученых вроде меня к написанию научно-популярных текстов, — это возможность вовлечь в дискуссию. Полемический стиль научно-популярных текстов зародился еще во времена золотого века исламской науки. Тогда в центре внимания были ценность науки и ее отношение к исламу. Один из самых талантливых мусульманских астрономов, перс аль-Бируни, был недоволен антинаучными настроениями среди исламских экстремистов, а ученый и врач ар-Рази, которым восхищался аль-Бируни, утверждал, что ученые приносят человечеству больше пользы, чем религиозные лидеры, чудеса которых не более чем хитрые трюки. В ответ знаменитый врач Авиценна сказал, что ар-Рази следует рассуждать о тех вещах, в которых он разбирается, — о фурункулах и экскрементах.
Во время научной революции полемика появилась и в научно-популярных текстах европейских ученых. Галилей не только не подчинился приказам Римской инквизиции, когда в своем «Диалоге» доказывал, что неподвижно именно Солнце, а не Земля, — он написал «Диалог» не на латинском языке ученых, а на итальянском, и использовал небольшое количество математических выкладок, чтобы его сочинение смог прочитать и понять любой грамотный итальянец. Его соотечественники сумели это оценить; к тому моменту, когда Церковь приказала запретить книгу, весь ее тираж был распродан.
Дарвиновское «Происхождение видов» является практически единственным примером отчета о профессиональном научном исследовании высочайшего уровня, в котором одновременно, по крайней мере неявно, открывается полемика (как сказал Дарвин, «один большой аргумент») о важной для общества проблеме — основах религиозной веры. Дарвин надолго разрушил почти общепринятую гипотезу о необходимости Божественного вмешательства, без которого невозможно объяснить способности растений и животных. Книга Дарвина вовлекает в полемику отчасти потому, что она прекрасно читается. (Конечно, Дарвин как писатель имел преимущество в том, что биология в его время была недостаточно развита для использования математического аппарата, поэтому ему не нужно было решать, как объяснить математические идеи публике.)
Полемика относительно науки и религии продолжается и поныне, и особенно это заметно в книгах Ричарда Докинза (включенных Макьюэном в свой канон) и Сэма Харриса, с одной стороны, и Джона Полкинхорна и Фрэнсиса Коллинза — с другой. Я и сам высказывался по этой теме, главным образом в нескольких статьях в The New York Review of Books , но я никогда не встречал человека, чья религиозная вера пошатнулась бы из-за приведенных мной контраргументов. Нет, я не Дарвин.
Несколько лет назад я начал много писать о другой проблеме — о государственной поддержке науки. В свое время администрация Рейгана предложила построить очень большой ускоритель элементарных частиц, Сверхпроводящий суперколлайдер (SSC). Работа началась, было потрачено около $1 млрд, но вопрос о продолжении финансирования проекта оставался открытым. Меня и других физиков попросили объяснить в комитетах при конгрессе, в редакционных советах и на публичных собраниях, почему SSC был хорошей идеей. Мне настолько часто приходилось выступать в защиту редукционистских целей физики высоких энергий и рассказывать о пользе поиска законов, дающих начало всем цепочкам объяснений, что я написал об этом книгу «Мечты об окончательной теории». Увы, в 1993 г. финансирование SSC было прекращено, но, хотя я и сильно огорчен тем, что мы, физики, не смогли убедить конгресс в его необходимости, я все же горжусь, что написанная мной книга попала в канон Макьюэна.
Мое участие в полемике продолжилось в новой книге «Объясняя мир». В ней я попытался представить объективный взгляд на историю очень сложных взаимоотношений религии и науки, однако читатель, наверное, сможет угадать, какая позиция мне близка. Кроме прочего, на страницах книги я спорю с теми историками науки, которые пытаются судить о научных работах каждой эпохи, следуя не современным стандартам, а нормам исследуемого исторического периода, как будто наука не накапливает знания и не прогрессирует и как будто историю науки можно писать так же, как историю моды. Можно признавать огромную энергию и интеллект Аристотеля и при этом видеть, как некоторые из его представлений о надлежащих способах познания мира стали преградой для прогресса. Я испытываю огромное уважение к профессиональным историкам науки, благодаря которым я так много узнал, но в своей книге я представил более уравновешенную, по сравнению с работами отдельных историков, точку зрения, причем не только на фигуру Аристотеля, но также и на других кумиров, среди которых Демокрит, Платон, Авиценна, Роберт Большая Голова, Фрэнсис Бэкон и Декарт.
В последние десятилетия открылся еще один канал доставки научных идей до широкой общественности. Это литература. И я говорю не о научной фантастике, которая еще со времен Жюля Верна описывала последствия использования научных знаний для технологического развития. В последнее время некоторые авторы заинтересовались влиянием на людей не прикладных технологий, а научной работы и научных идей. Прежде всего, я имею в виду некоторые пьесы Тома Стоппарда, романы Иэна Макьюэна и поэзию, в частности новую поэму Клайва Джеймса «Горизонт событий». Эти авторы много сделали для того, чтобы наука стала частью современной культуры, о чем всегда мечтали ученые.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
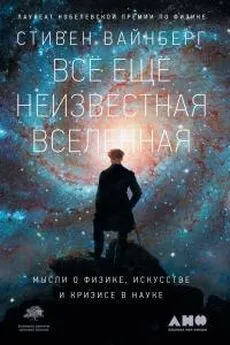

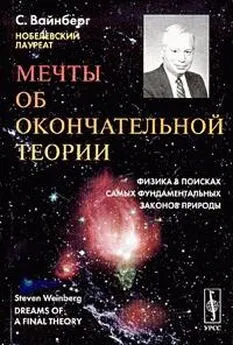
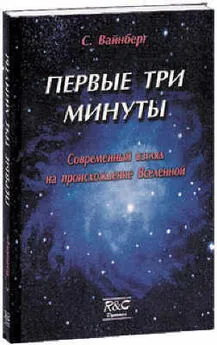

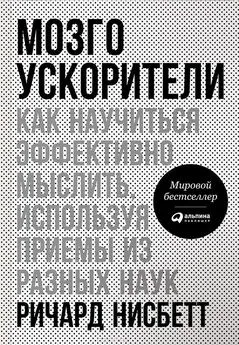
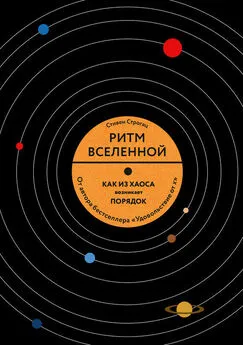
![Стивен Вайнберг - Первые три минуты [litres]](/books/1068055/stiven-vajnberg-pervye-tri-minuty-litres.webp)