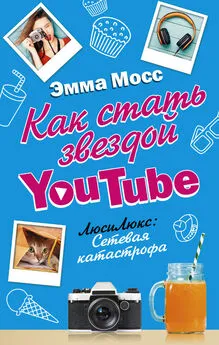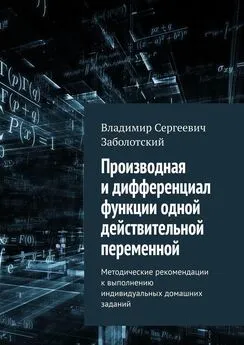Марсель Мосс - Социальные функции священного
- Название:Социальные функции священного
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Евразия
- Год:2000
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марсель Мосс - Социальные функции священного краткое содержание
Социальные функции священного - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Возможно даже, что порядок событий противоположен порядку их фиксации. Одной из более поздних документированных мистических тем является миф об отправке души к солнцу. Ведь он нам представляется слишком образной, слишком интеллектуальной формой мистики, шаманизма, чтобы служить предметом рассмотрения для востоковеда, этнографа, социолога. Этот миф встречался только в Упанишадах йоги и в более древних, чем Атхарваведа, в то же время именно из него приходится делать другие выводы. Именно из него можно образовать, в частности, фундаментальную формулу провозглашающую единство субъекта и объекта «Tat tvam asis» (букв. «То ты еси»), которая господствует во всем мышлении Индии. Индуистский шаманизм был полон реализма. Таким он и остается.
В то же время вполне достаточно историков идей, которые заметили, что у Плотина действия, подготавливающие экстаз, представляются сопоставимыми с аналогичными действиями в буддизме, в йоге, в самой Веданте, с классической доктриной брахманизма. Это было общим местом у старых авторов, и лучше других этот вопрос представлен у Лассена [1049]. «Аплозис» (аяХсоац) в особенности, по-видимому, обладал индийским вкусом. Но Массон-Урсель хотел бы скорее отнести это совпадение на счет некой неизбежности, своего рода психологического закона, что должна была бы выявить «сравнительная психология», часть сравнительной философии. Мы, как и он, верим в эту неизбежность, но почему она лишь так поздно проявляется на западе и только весьма смутно, чтобы чудесным образом проявиться гораздо позже у Плотина?
Ни греки, ни семиты, ни египтяне сами по себе не были мистиками в психологическом смысле слова: у них были лишь таинства, откровения, по нашему мнению, не предполагавшие использования невыразимых сил души. Откуда у них этот запоздалый взрыв? Это может объяснить только одна историческая причина. Христианство этой эпохи к сему не причастно, как и учение гностиков. Мы считаем, что допустимо предположить прямое влияние Индии.
Это влияние индийской мистики на плотинизм отрицалось лишь в связи с одним обстоятельством из области истории (одно обстоятельство не является весомым основанием): не имелось никаких доказательств того, что греки хотя бы во втором веке нашей эры имели какое-либо представление об этих доктринах. Тот хорошо известный факт, что индийские купцы и софисты жили в Александрии и в Средиземноморье свыше двухсот лет до этой эпохи, недостаточен для требовательного историка. Мы согласны с этой требовательностью. Ошибка заключается в выводе отсюда утверждения об обратном, о том, что знакомства с индийскими доктринами не было. Утверждение об обратном на основании отсутствия доказательств всегда опасно и в данном случае, по-видимому, теперь опровергнуто одним фактом.
Новое обстоятельство, документ, основывающийся на папирусе с магическими текстами, действительно только что сделал актуальным этот вопрос.
Норден в своей превосходной книге «Рождение ребенка» [1050]комментирует упоминания некоторых индийских верований в папирусе второго века, имеющем отношение к культу Изиды. Он считает этот факт сенсационным, рассматривая его в связи с мифом о зачатии бога, божественного младенца [1051]. При этом, говоря об этом факте, он выражает надежду на то, что он «не будет использован слишком неосторожно».
Мы позволим себе такое, возможно, не совсем осторожное использование. Но в отношении другого вопроса, в отношении мистики.
В прозаическом гимне в прозе, посвященной многоликой Изиде, который датируется, согласно Гренфел и Хант, по типу письменности, по меньшей мере, началом второго века, мы находим следующие надписи: Pap. Oxyrr., XI, 1380
ev ’A[0]plpi Malav, dp0co5iav. 1.39 [в Атрибе Майю, направляющий]
ev xolc; ВогжоХебот, Malav 1.42 [1052][среди Буколеусов Майю]
ev ’Iv5ol<; Malav1.103 [среди индийцев Майю]
и далее1.223-226
... яЛощшжху яотацал\.. [разлив рек]
т ... Г| ау£Ц коа тоб ёу Аь.. [ты приносишь в Египте — Нила] ушгсш Ые[1Хо]\), еу 5е ТригоАл ёАеиверог), [в Триполи «свободного»] еу 5ё хг\ ’1у5исп Гаууоо [в Индии Ганга]
Таким образом, у греков, посвященных в таинства Изиды и ее откровения, была идея о сравнении с Майей, именем и олицетворением, не только «матери Будды», но еще и «Великой Иллюзии» (мы оставляем в стороне очень спорный и очень естественный вопрос о том, не является ли имя матери Шакьямуни солнечным символом и символом великой иллюзии). И они высказывали мысль именно по поводу многоликой Изиды, что она так же относится к божеству Нила, как, по представлению индусов, божественная сущность связана с Гангом. Все это доказывает, что по крайней мере частично индийские доктрины вполне достоверно были известны в Александрии, и именно в кругах мистиков. Как раз перед временами Плотина индийские идеи находились в контакте с идеями мистерий Изиды. Мы не имеем больше права считать невозможным прямое влияние Индии на способ мышления александрийских греков.
Возможно, что другие открытия обнаружат другие, более тесные контакты. Идеи в античном мире продвигались очень далеко и часто по тайным каналам: как они вновь циркулируют у наших франкмасонов или в наших конгрегациях и сектах.
Было необходимо и достаточно, чтобы к различным гностическим теориям и к различным мифологическим мистикам, пришедшим из Индии и из передней Азии, будь они направлены на спасение или соединение с божеством, Плотин присоединил обаяние греческого интеллектуализма. С этого момента все западные мистические учения, идущие от Плотина и всех христианских мистик, наследники Плотина через посредство Дениса получили этот полный очарования философский и онтологический аспект, который так мало проявляется в практике медитации брахмана, йога, буддийского шрамана (нищенствующего монаха) и шамана (это слово, кстати, родственно предыдущему термину).
ИНДИЯ
АННА-ВИРАДЖ
(1911)
Среди стихотворных размеров, форм, соблюдения которых требует ведическая просодия, нет таких, за которыми брахманы [1055], теологическая часть Вед, не признали бы качество на первый взгляд странное: свойство питательности. Они сами есть своего рода пища (аппа). Это живые существа, животные, объекты жертвоприношения и, следовательно, то, что можно принимать в пищу [1056] [1057]. Как и множество других, в первую очередь речевых обрядов, и особенно песнопения (sâmanf, все стихотворные размеры считались духовной пищей, приносимой богам, и прежде всего — Праджапати, богу-творцу всего сущего. Идеал для брахманов — с помощью собрания гимнов, песен, упорядоченных согласно разной символике, составить живое существо, птицу, животное или человека мужского пола [1058]и преподнести этот высший мистический дар богу — пожирателю и творцу мира [1059]. С другой стороны, предложить пищу богам — значит создать ее для себя самого, обеспечить себе съестные припасы (annadya), урожай, изобилие, богатство, превосходство [1060]. Повторение стиха есть пища, приносимая в жертву богам, и это есть способ получить от неба [1061]съедобные вещи, которые возвращаются к жертвователю в виде урожая, в виде домашних животных с их продуктами и детенышами в положенное время года.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: