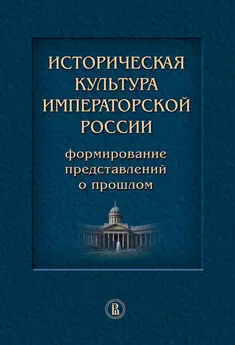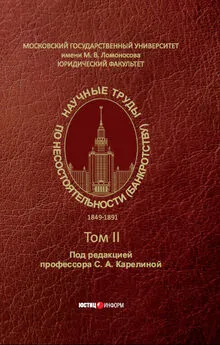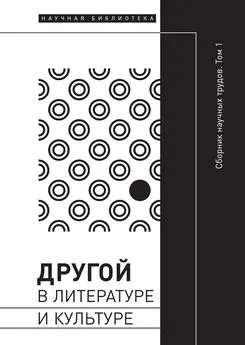Array Коллектив авторов - Историческая память и диалог культур. Том 2
- Название:Историческая память и диалог культур. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент БИБКОМ
- Год:2013
- Город:Казань
- ISBN:978-5-7882-1352-1, 978-5-7882-1353-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - Историческая память и диалог культур. Том 2 краткое содержание
Историческая память и диалог культур. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В связи с определением значимости титула «владыка» представляет уточнение круга отличительных прав и полномочий обычного епископа от того комплекса административно-правовых ресурсов, какими обладал епископ-владыка.
Круг канонических и иных возможностей новгородских архиереев хорошо изучен. Он включал в себя не только сугубо архипастырские богослужебные и судебно-административные права, но и такие специфические полномочия, как участие в управлении городом и контроль в сфере торговли 127 127 Перхавко В.Б. Церковь и внешнеэкономические связи Руси в XI-XIV вв. // Церковь, общество и государство в феодальной России /отв. ред. А. И. Клибанов. М., 1990. С. 61.
. Последнее обстоятельство особенно интересно. Устав князя Всеволода действительно наделял церковь существенными контрольными правами в области торговли. Более того, новгородский архиепископ в обозначенном уставе именовался «владыкой» 128 128 Устав новгородского князя Всеволода о церковных судах, людях и мерилах торговых // Щапов Я.Н. Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. М., 1976. С. 153-158; о дном Уставе и его значении см: Янин В.Л. Новгородские посадники. М., 1962. С. 82-93; Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси. М., 1972. С. 165-177.
. В дальнейшем данное представление об архиепископе вошло в международные торговые соглашения Новгорода. В.Б. Перхавко обратил внимание на то, что с начала XIV века в преамбулах международных договоров Новгорода использовалась не только обычная формула «от архиепископа новгородского», но и иной вариант отражения властных полномочий местного архиерея – «благословение от владыки». Поэтому можно утверждать, что указанная особенность оформления договоров подтверждает принципиальную важность титула «владыка». Учитывая, что с XII в. большинство новгородских святителей были избираемы самими горожанами, что так и не смогло закрепиться за иными епископскими кафедрами 129 129 Попытки избрания епископа прослеживаются в Турове и Суздале. Прежде всего, эти случаи связаны с именем Кирилла Туровского, житие которого прямо указывает, что тот был избран князем и горожанами (Житие Кирилла Туровского // Мельнікаў А.А. Кірыл, епіскап Тураўскі. Жыццё, спадчына, светапогляд. 2-е выд. Мн., 2000. С. 14-16). Его преемник, затворник Лаврентий, не был из числа местных граждан. Но судя по всему, его кандидатура так же была одобрена местной знатью. Что касается Суздаля, то данный случай связан с историей конфликта, вызванного требование местной знати поставить на кафедру этого города печерского воспитанника Луку вместо присланного из Киева грека Николая. В 1183-1185 г. суздальцы и их князь Всеволод Юрьевич категорически отказались принимать у себя византийца, ибо «не избраша сего людье» и хоть и не без усилий, однако добились рукоположения желанного ими кандидата (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 629-630).
, и в итоге неподсудны без согласия Новгорода Киеву, можно заключить, что власть новгородских архиереев приобрела особый ореол, а именование «владыка» величайшую ценность.
Впрочем, уже в следующие столетия рассматриваемый титул получил более широкое использование. Так, например, в XVI в. ростовский архиепископ Алексий подписывался как «смиренный архиепископ Ростовскый и Рославскый Белозерскый владыка Алексей» 130 130 Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 2: В-Волога. М., 1975. С. 212.
. Но даже по прошествии трёхсот лет применённая формула архиерейского титула не позволяет видеть во «владыке» некий обычный синоним епископского сана и «неофициальную» форму обращения.
Подобный круг прав епископа-владыки хорошо прослеживается и во Владимире в период епископства Феодорца. О широте власти этого архиерея свидетельствует не только независимость от митрополита, но и иные права: во-первых, возможность наложения интердиктов 131 131 Закрытие владимирских храмов можно однозначно квалифицировать как интердикт (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 355).
, которые никто так и не опротестовал, если не считать укоризн от епископа Кирилла Туровского 132 132 В одном из своих посланий к Андрею Боголюбскому Кирилл Туровский обличил и князя, и его любимца, епископа Феодора, в воровстве во вручённом им «винограднике». Суть обличений выходит за рамки явных упрёков в усвоении Феодором епископского сана, но указывает на явные злоупотребления (Кирилла монаха притча о человеческой душе и о теле, о нарушении Божьей заповеди и о воскрешении тела человеческого, о Страшном Суде и мучении // Колесов В.В. Кирилл Ткровский. М., 2009. С. 30-35). Наиболее вероятно, что речь идёт в том числе о действиях Феодора в Ростове (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 355-356).
; во-вторых, не только совершение суда, но и применение пыток и казней 133 133 Лаврентьевская летопись передаёт следующие подробности епископского суда: «Много бо пострадаша ч[е]л[о]веци от него въ держаньи его. и селъ изнебывши и оружиа. и конь. друзии же и роботы добыша. и заточеньа же и грабленьа. не токмо простьцем но и мнихом. игуменом и ереемъ. безъм[и]л[о]стивъ сыи мучитель. другымъ ч[е]л[о]в[е]комъ головы порезывая и бороды. иным же очи выжигая. и языкъ оурезая. а иныя распиная по стене» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 355-356).
, что обычно было прерогативой княжеской власти. В-третьих, каноническая неподсудность Киеву. Здесь необходимо обратить внимание, что описанный в летописании суд над Феодорцом полон недосказанности и отчасти показал бессилие митрополичьей власти над владимирским епископом, если допустить, что возможно, жестокая расправа над Киевом и ограбление церквей могли быть спровоцированы в том числе и этой казнью.
Но здесь возникают определённые затруднения. Вероятнее всего титул «владыка» был калькой с греческого «деспотис», однако в русской традиции при применении данного именования к архиерею акцент делался не на духовном господстве епископа, «кириос», а на комплексе его светских прав и функций в городе или церковном округе. Греческая церковная иерархия, опиравшаяся на древнюю гражданско-церковную систему права и чиновничество, кажется, не знала подобных притязаний на светскую власть со стороны епархиальных архиереев. Описанные амбиции могли встречаться лишь на присоединённых территориях, например в Болгарии 134 134 Примерами избыточествующей амбициозности епархиальных архиепископов и епископов изобилует не только история Руси (об автокефалистских настроениях на Руси см.: Мильков В.В. Духовная дружина русской автокефалии: Лука Жидята // Россия XXI в., 2009. № 2. С. 116-157; он же. Духовная дружина русской автокефалии: Иларион Киевский // Россия XXI в., 2009. № 4. С. 112-157; № 5. С. 98121), но и история христианства у южных славян (см. Скурат К.Е. История поместных православных церквей. М., 2011. Ч. 1. С. 101-106, 245-253).
, но не на греческой земле. Конечно, константинопольские патриархи порой стремились и нередко даже достигали колоссального влияния на государственные дела и политическую жизнь в столице 135 135 Дагрон Ж. Император и священник. Этюд о византийском «цезарепапизме». СПб. 2010. С. 386-395.
, но представить себе подобные претенциозные действия со стороны рядовых византийских епископов или архиепископов крайне сложно. Поэтому вызывает сомнение то, что комплекс полномочий, находившихся в руках и в ведении епископавладыки, имел византийское происхождение, поскольку само возникновение русского варианта титула связано главным образом, с расширением комплекса светских прав местных архиереев.
Интервал:
Закладка: