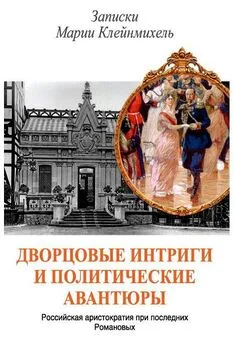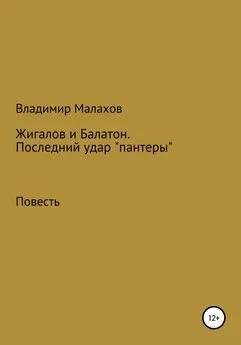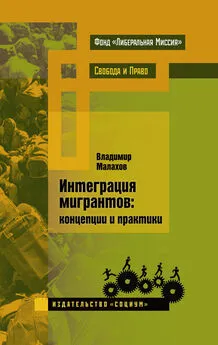Владимир Малахов - Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций
- Название:Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0311-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Малахов - Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций краткое содержание
Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таким образом, культуре принадлежит уникальная роль в становлении современных государств. Последние предстают в наших глазах как политическое выражение некоего культурного единства (нации). Государство, будучи гарантом и опекуном национальной культуры, черпает в этом свою легитимность. При этом обычно не обращают внимания на то, что культура, оберегаемая государством в качестве «национальной», формируется за счет подавления различий.
То, что со временем начинает восприниматься как «национальная культура», является результатом масштабных усилий государства по искоренению культурного разнообразия . Сначала объектом «культивирования», то есть подгонки под определенный образец, выступают культуры низших социальных страт. (Основным средством такой подгонки, конечно же, служит система образования 12 12 См.: Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. М.: Ad Marginem, 1995. С. 105—117.
.) Затем приведению в соответствие с «национальным» культурным образцом подвергаются группы, которые сегодня мы назвали бы «этническими меньшинствами». В этом случае объектом гомогенизирующей политики становятся не только простолюдины, но и местная знать (скажем, шотландская аристократия в английском случае или провансальская – во французском).
Итак, современные государства – это устройства по приведению в соответствие друг с другом культурных и политических границ. Эти государства по определению являются национальными государствами. В той мере, в какой они нуждаются в однородном пространстве управления, они не могут не быть нациями-государствами.
Отсюда распространенное представление о том, что изменение политических форм, которое человечество претерпело с наступлением современности, это эволюция , а именно движение от государств-империй к государствам-нациям. Это представление, однако, можно и нужно подвергнуть пересмотру 13 13 Провозвестниками такого пересмотра в русскоязычном академическом пространстве выступили ученые из Центра исследований национализма и империи (Казань). См. издаваемый ими журнал Ab imperio. См. также: Герасимов И., Глебов С., Кусбер Я., Могильнер М., Семенов А. Новая имперская история и вызовы империи // Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма. М.: Новое издательство, 2010. С. 383—418.
. Во-первых, оно основано на допущении, будто нация-государство есть «нормальная», «естественная» форма организации политической власти. Но это нормативное, оценочное допущение. Делая его, мы молчаливо подразумеваем, что любые иные формы организации власти суть отклонения от нормы. Между тем политическая форма, которую мы сегодня принимаем за норму, существует не более двух столетий, тогда как империи сопровождали человечество на протяжении нескольких тысячелетий. Во-вторых, если сравнивать обращение с культурными различиями в государствах имперского типа и в государствах-нациях, то сравнение получается не в пользу последних. Имперские политии домодерна демонстрировали относительную терпимость к культурным различиям, тогда как национальные государства модерна усердствовали в ассимиляции 14 14 Разумеется, терпимость к различиям существовала здесь лишь в той мере, в какой власти не усматривали в их проявлениях угрозы сложившимся отношениям господства. О вариативности стратегий империй в отношении к культурной неоднородности см.: Burbank J., Cooper F. Empires in World History: Power and the Politics of Difference. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2010. P. 3—4; 11—17. Русский перевод введения к этой книге см.: Бурбанк Дж., Купер Ф. Траектории империи // Ab imperio. 2007. № 4. С. 47—85.
. В-третьих, исторически не совсем корректно утверждать, будто нации-государства пришли на смену империям, вытеснив их с политической сцены. На самом деле эти две формы устройства сосуществовали. Франция, которую мы рутинным образом рассматриваем как классическое «национальное государство», была империей еще сравнительно недавно – при Наполеоне III (с 1852 по 1870 год), а от своих колониальных владений отказалась и вовсе в 1960-е. Великобритания и Нидерланды перестали быть империями лишь во второй половине 1940-х годов. (При этом, заметим, оставшись монархиями.) Что же до трех имперских образований, исчезнувших с карты мира в 1918 году (Российская, Османская и Австро-Венгерская империи), то нет сколько-нибудь убедительных доказательств того, что их конец был предрешен. Авторитетные специалисты по исторической социологии убеждены, что, не случись в 1914 году «Великой войны», эти образования в каком-то обновленном виде могли бы существовать чуть ли не по сегодняшний день 15 15 К их числу принадлежит Майкл Манн. См.: Mann M. The Sources of Social Power. Vol. 2.: The Rise of Classes and Nation States, 1760—1914. NY: Cambridge University Press, 1995.
.
Проблема, с которой империи столкнулись в эпоху модерна, – это не проблема «неэффективности» 16 16 Экономические показатели России на 1914 год говорят скорее о том, что с точки зрения эффективности дела в ней обстояли совсем неплохо. См.: Ленин В.И. Развитие капитализма в России // Ленин В.И. Полн. собр. соч.: В 55 т. М.: Издательство политической литературы, 1967. Т. 3.
, а проблема легитимности. Коль скоро в качестве принципа легитимации власти начиная с 1789 года, утверждается принцип воли народа, или нации, правительства имперских государств оказываются в щекотливом положении. Они не могут просто адаптировать институты представительного правления (хотя некоторым из них – например, уже упомянутой Великобритании – это удалось). Принцип «самоопределения народа», проинтерпретированный в духе национализма (один народ – одно государство – одна культура), тикает рядом с ними, как бомба замедленного действия.
Именоваться «империей» в эпоху господства национализма – настоящая стигма. По меткому замечанию Майкла Хечтера, если государство преуспело в политике культурной гомогенизации подконтрольного ему населения, его называют национальным государством, если же нет – «империей». В самом деле, с точки зрения бретонцев, провансальцев, фламандцев и многих других народов, населявших Францию на момент создания империи Наполеона Бонапарта, культурная политика Парижа была не чем иным, как политикой внутреннего колониализма 17 17 О жестких мерах, на которые шли центральные власти во Франции в период между 1880 и 1914 годом, пытаясь вытеснить из обращения бретонский язык в Бретани, см.: Шадсон М. Культура и интеграция национальных меньшинств // Международный журнал социальных наук. 1994. № 3. С. 82—90.
. Ровно так же обстояло дело в британском случае с точки зрения шотландцев, валлийцев и ирландцев, причем как в бытность Британской империи, так и после ее демонтажа в 1945—1947 годах. Однако сегодня почти никто не обвиняет эти государства во «внутреннем колониализме» и не называет их «мини-империями» 18 18 К немногим исключениям принадлежат Том Нейрн и уже упомянутый Майкл Хечтер. См.: Nairn T. The Break-up of Britain: Crisis and Neonationalism. L.: New Left Books, 1977; Hechter M . Internal Colonialism: The Celtic Fringe in the British Development. L.: Routledge & Kegan Paul, 1975.
. Между прочим, взгляд на Грузию как на мини-империю в 1992—2008 годах был широко распространен в Сухуми и в Цхинвали, но его категорически не принимали в Париже и Лондоне (не говоря уже о Тбилиси) – в том числе те, кто считал «мини-империей» современную Российскую Федерацию 19 19 См. полемику с западными коллегами, рассматривающими современную Россию как последнюю «мини-империю», в статье: Тишков В.А. Забыть о нации // Вопросы философии. 1998. № 9.
.
Интервал:
Закладка:

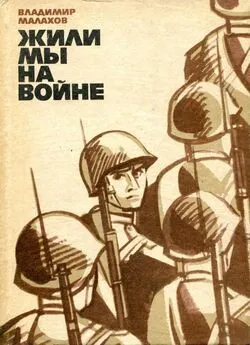

![Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1]](/books/1074202/neizvestnyj-avtor-mir-v-xx-veke-epoha-globalnyh.webp)