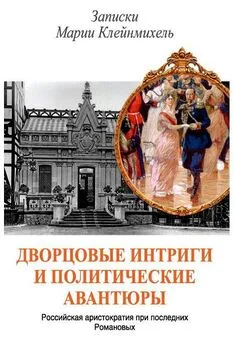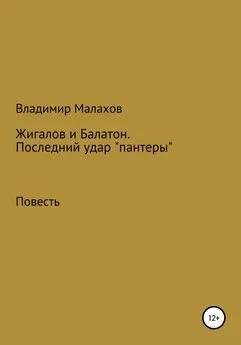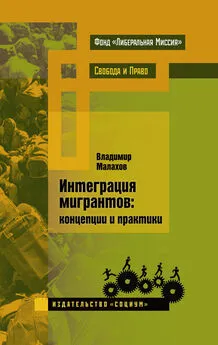Владимир Малахов - Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций
- Название:Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0311-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Малахов - Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций краткое содержание
Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Региональная идентичность и связанный с ней «регионализм» отнюдь не всегда имеют этническую окраску. Так, сибиряки и казачество в России до первой половины 1920-х годов – это и особое самосознание, и особые культурные практики, несмотря на то что в этническом отношении обе общности суть части русского народа 24 24 Литература о казачестве как специфической культурной – и даже «этносословной» – группе огромна. О сибиряках как носителях «областнического», то есть регионалистского, самосознания см.: Ремнев А.В. Западные истоки сибирского областничества // Русская эмиграция до 1917 года – лаборатория либеральной и революционной мысли. СПб, 1997. С. 142—156.
.
Яркая иллюстрация регионального противодействия культурной ассимиляции – «областничество» в современной Испании. Каталонцы в наши дни не менее энергично настаивают на своей отдельности от жителей остальной Испании, чем полвека назад, когда употребление каталанского языка было запрещено. Сегодня каталанский язык – второй государственный на территории Каталонии наряду с испанским (который здесь называют не иначе, как «кастильский»). В Каталонии предпочитают другую кухню, чем в остальных частях Испании, национальным танцем считают сарда, а не фламенко, а бой быков, без которого немыслима идентичность кастильцев (а тем более андалусцев), здесь недавно запретили. Культурное самосознание вкупе с экономическими интересами дают мощный толчок сепаратистским настроениям. Вопрос об отделении Каталонии до сих пор не снят с повестки дня.
При этом важно отдавать себе отчет в том, что основанием, на котором строятся идентичности региональных сообществ в Испании, служит именно регион, а не этничность (базирующаяся на языке) 25 25 Единственное исключение – баски, культурная идентификация которых имеет этническую основу. Более того, вплоть до 1930—1950-х годов баски интерпретировали этничность в биологических терминах. Любой житель Испании, если он не был баском по крови, даже если он владел баскским языком, считался в Стране Басков иностранцем. С тех пор представления басков о содержании этнической идентичности изменились. Они охотно включают в свою этническую общность всех, кто демонстрирует лояльность баскскому языку и традициям. См.: Кожановский А.Н. Испанский случай: этнические волны и региональные утесы // Национализм в мировой истории / Под ред. В.А. Тишкова и В.А. Шнирельмана. М.: Наука, 2007. С. 227—258.
. Жители Арагона, несмотря на то что их родным языком является каталанский, считают себя арагонцами, а не каталонцами. Точно так же жители Валенсии и Балеарских островов – это соответственно валенсийцы и балеарцы по своему самосознанию, а вовсе не каталонцы. Вот почему административно-территориальная децентрализация, проведенная вскоре после смерти Франко, привела совсем не к такому размежеванию, которое можно было считать «этническим» и которое показалось бы «естественным», исходи испанцы из привычной нам этноцентричной схемы. Границы созданных в 1977 году автономий практически полностью совпали с границами исторических регионов (областей): «…ведь эти границы проводили в строгом соответствии с демократической процедурой, то есть по воле граждан, для которых “этносов” (хотя бы и под другим названием) в нашем понимании в Испании просто не существует <���…> Неудивительно поэтому, что общее количество автономных образований здесь составило не три (по числу “национальных меньшинств”) и не четыре (если к ним добавить еще и “доминирующую нацию”), а целых семнадцать (да еще и два “автономных” города на африканском берегу (Сеута и Мелилья)» 26 26 Там же. С. 234.
.
Другой пример регионального несогласия с национальными границами – «Северная Лига» в Италии. Для протагонистов и симпатизантов этого движения далеко не очевидно, что Италия – одна страна, с одним историческим и культурным прошлым и с одним политическим будущим. В идеологии этого движения важную роль играет миф об особом происхождении северян. Они, как предполагается, ведут свою родословную от кельтов (и, будучи наследниками уникальной кельтской культуры, несут в себе особую кельтскую ментальность), чем не могут похвастаться жители итальянского юга 27 27 См.: Шнирельман В.А. Единая Европа и соблазн кельтского мифа // Национализм в мировой истории. С. 452—485.
.
Отдельного обсуждения заслуживают классовые и идеологические вызовы нарративу национальной культуры. Уместно вспомнить тезис Ленина о двух культурах – культуре эксплуататоров и культуре эксплуатируемых, сосуществующих внутри каждой нации 28 28 См.: Ленин В.И. О национальной гордости великороссов // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 21. С. 84—88.
. Ленинская концепция сегодня выглядит крайним упрощением. Однако сама восходящая к Марксу теоретическая интенция анализировать культуру сквозь призму социально-классовых интересов из исследований культуры не ушла 29 29 См.: Abercrombie N, Hill S., Turner B.S. The Dominant Ideology Thesis. London: George Allen & Unwin, 1980.
. Представители бирмингемской школы, опираясь на грамшианскую концепцию идеологической гегемонии, исследуют феномен культурной гегемонии. Важнейшая проблема для них – возможность таких форм популярной (в противовес так называемой «массовой») культуры, которая может быть названа народной в полном смысле слова. При этом они отдают себе отчет, что иного медиума для вызревания «народной культуры» помимо того что называется «массовой культурой», не существует. Однако бирмингемцы обращают внимание на внутреннюю двойственность этого феномена. С одной стороны, массовая культура есть не что иное, как процесс и результат инкорпорирования подчиненными классами ценностей господствующих классов. С другой же стороны, именно в рамках массовой культуры возникали различные формы культурного протеста, бросавшие вызов буржуазному мейнстриму (например, контркультурное движение 1960-х годов). Популярная культура, о которой говорят Стюарт Холл и его единомышленники, —антибуржуазная по своей эстетике и антикапиталистическая по своей идеологической направленности. Популярная культура, по С. Холлу, – это место, где идет борьба за гегемонию между теми, кто утверждает безальтернативность капитализма, и теми, кто бросает им вызов. «Это не сфера, где социализм, социалистическая культура <���…> просто находит свое “выражение”. Но это одно из тех мест, где социализм может конституироваться. Вот почему “популярная культура” имеет такое значение. Иначе, сказать по правде, мне на нее наплевать» 30 30 Hall S. Notes on Deconstructing the «Popular» // Storey J. (ed.) Cultural Theory and Popular Culture: A Reader, Prentice Hall. 1998. P. 453. Цит. по: Черных А. Мир современных медиа. М.: Территория будущего, 2007. С. 173.
.
Интервал:
Закладка:

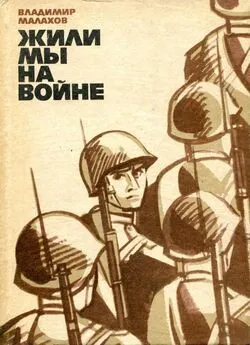

![Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1]](/books/1074202/neizvestnyj-avtor-mir-v-xx-veke-epoha-globalnyh.webp)