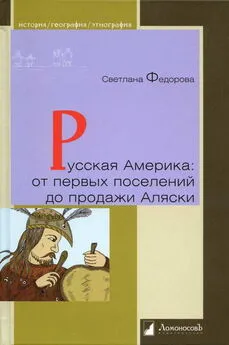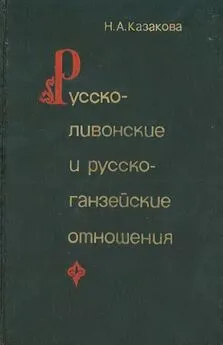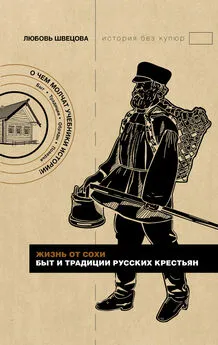Елена Грузнова - На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.).
- Название:На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.).
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент СПбГУ
- Год:2012
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-288-05324-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Грузнова - На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.). краткое содержание
Особое внимание уделено исследованию объектов поклонения простонародья и выявлению жизненных ситуаций и социальных групп, которые способствовали сохранению и развитию обычаев, отвергавшихся официальной культурой.
Издание рассчитано на историков, этнографов, культурологов, религиоведов, может быть использовано в учебном процессе в качестве пособия для изучения истории русской народной культуры.
На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.). - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Некоторые из списков Стоглава публиковались начиная с середины XIX в. Поскольку интересующие нас фрагменты не имеют расхождений (по крайней мере, принципиального характера), то в предлагаемом исследовании за основу взято субботинское издание памятника, [65] Царския вопросы и соборныя ответы о многоразличных церковных чинех (Стоглав). М., 1890. 434 с.
которое наряду с казанским признается лучшим, так как воспроизводит особенности подлинника. Последнюю публикацию, предпринятую Е. Б. Емченко, нельзя признать удачной, поскольку она сделана по правилам современной пунктуации, которая зачастую противоречит другим изданиям памятника и меняет смысл отдельных фрагментов. [66] Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. М., 2000. 504 с.
Хотя задачи Стоглавого собора были гораздо масштабнее, чем выявление царивших в низших слоях общества нехристианских традиций, однако место, отведенное в постановлениях этой проблеме, говорит о ее актуальности для середины XVI в. Характеристике языческого наследия русского народа посвящена часть 41-й главы памятника, где собраны так называемые «вторые царские вопросы»; главы 91-я, 92-я, 93-я, 94-я и 100-я, где более подробно рассмотрены некоторые аспекты проблем, поднимавшихся в 41-й главе; а также 8-я и 34-я главы, вскользь упоминающие отдельные «нестроения».
В наиболее четкой обрисовке недостатков религиозной жизни были заинтересованы в первую очередь приходские священники, ежедневно сталкивавшиеся с жизнеспособностью «бесовских» обычаев.
Не случайно В. Бочкарев и Л. В. Черепнин считали, что все 32 дополнительных царских вопроса собору, в число которых вошли и вопросы, связанные с языческими пережитками и ересями, не были заранее подготовлены от имени царя, как это утверждает их название, но возникли на самом соборе и задавались устно, из-за чего ответы на них помещались не отдельным блоком, а сразу же за соответствующим вопросом. [67] Бочкарев В. Я Стоглав и история собора 1551 г. Историко-канонический очерк. Юхнов, 1906. С. 97; Черепнин Л. В. К истории «Стоглавого» собора 1551 г. // Средневековая Русь. М., 1976. С. 121.
Современный исследователь Стоглава В. В. Шапошник также пришел к выводу, что эти вопросы были заданы представителями провинциального духовенства, стремившимися обеспечить себе надежную опору в борьбе с самовольным творчеством народных масс, соединявших в единый комплекс элементы православной и языческой культуры. [68] Шапошник В. В. Деятельность митрополита Макария… С. 14.
По наблюдениям В. Бочкарева, группа вопросов, посвященных народным суевериям, составляет треть общего количества дополнительных вопросов— 11 (16, 17, 19–27), т. е. столько же, сколько и вопросы относительно богослужения. [69] Бочкарев В. Я. Стоглав и история собора 1551 г. С. 98.
(А на самом деле больше, так как ученый выпустил из поля зрения стоящие особняком 2-й и 3-й вопросы, отнеся их к числу богослужебных.) При подобном положении вещей мнение Т. А. Новичковой и А. М. Панченко о том, что «„Стоглав“ – это попытка водворить культурное единообразие на всем пространстве только что собравшего удельную Русь Московского государства; это попытка покончить с русским „двоеверием“, заменить его „благочестием“», [70] Новичкова Г. А., Панченко А. М. Скоморох на свадьбе // Генезис и развитие феодализма в России: проблемы идеологии и культуры. Л., 1987. С. 102.
вовсе не кажется преувеличенным.
Недаром решения по части указанных выше вопросов, а именно тех, которые отмечали неблагочестивое поведение паствы в храмах или за их пределами в моменты христианских праздников, в обязательном порядке и практически дословно включались в наказные списки, рассылавшиеся в приходы для принятия к исполнению. И хотя рассылка списков затянулась, и, по замечанию И. Н. Жданова, в некоторых местах постановления собора были обнародованы только в 1558 г., [71] Жданов И. Я. Материалы для истории Стоглавого Собора. С. 263.
этот факт подтверждает, что описываемые в рассматриваемом источнике «нестроения» были реальностью всех русских земель, а не только новгородско-псковских, духовенство которых, по мнению многих авторов, сыграло решающую роль в подготовке документов Стоглавого собора. [72] См., например: Беляев И. Д. Стоглавый собор // ПС. 1860. Ч. 2, июнь. С. 141; Бочкарев В. Н Стоглав и история собора 1551 г. С. 18; Домострой. С. 307; Смоленская «наказная» грамота… С. 228; Bushkovitch Р. Religion and society in Russia: XVI–XVII cent. New York; Oxford, 1992. P. 24.
Исследователи обычно выделяют значение таких фигур, как митрополит Макарий, занимавший до этого новгородскую кафедру, его приемник на архиепископском посту Феодосий и благовещенский протопоп Сильвестр, выходец из новгородских торговых кругов, карьера которого стала особо стремительно развиваться после переезда в Москву вместе с Макарием. Впрочем, наблюдать обычаи северных территорий мог и сам царь, в 1547 г. совершивший, согласно Новгородской II летописи, поездку в Новгород, Псков и на Белоозеро. [73] ПСРЛ. T. 3. СПб., 1841. C. 151.
Как бы там ни было, но постановления собора явились важным шагом в укреплении православия на местах. И вряд ли можно согласиться со И. Н. Ждановым и Т. А. Бернштам, полагающими, что в вопросах подъема умственного и нравственного состояния народа собор ограничился пожеланиями, исполнение которых никак не было обеспечено. [74] Жданов И. H. Материалы для истории Стоглавого Собора. С. 240; Бернштам Т. А. Приходская жизнь русской деревни: очерки по церковной этнографии. СПб., 2005. С. 52.
Собор дал служителям церкви ориентиры, опираясь на которые местные священники должны были вести просветительскую работу среди населения, в случае надобности накладывая на нерадивых «овец Христовых» епитимью или даже отлучая отдельных прихожан в целях спасения остального стада.
Поэтому мы не можем присоединиться и к мнению В. В. Шапошника, считающего, что «в решении ряда проблем Собор передал инициативу в руки Ивана Грозного. Это касается борьбы с языческими пережитками, гаданиями, бесчинствами скоморохов». [75] Шапошник В. В. Деятельность митрополита Макария… С. 15.
Напротив, именно в указанных вопросах церковь и государство выступали рука об руку, но при главенствующей позиции иерархов, в сферу действия которых и входило все, связанное с нарушениями религиозного характера. Обращение же к помощи светской власти требовалось вовсе не потому, что, как думает Е. Б. Емченко, не срабатывал церковный закон. [76] Емченко Е. Б. Стоглав… С. 126–127.
Просто некоторые аспекты данного круга проблем входили в компетенцию государства – ведь только царь мог использовать не духовные, а репрессивные методы воздействия. Но и в этом случае обычно предполагалась совместная реакция. Не надо забывать и о том, что с конца XV в. Русь во многом учитывала византийский образец религиозно-политического устройства с царем как главенствующей фигурой для обеих ветвей власти.
Интервал:
Закладка: