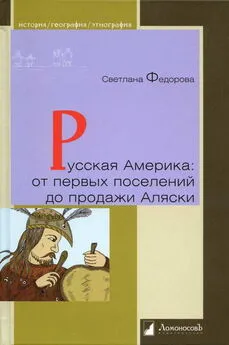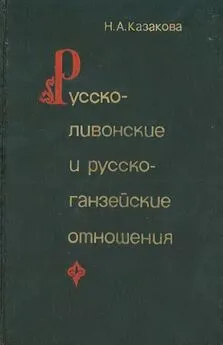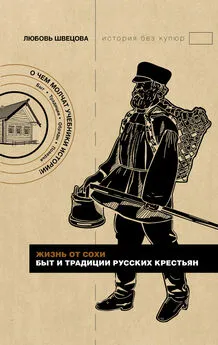Елена Грузнова - На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.).
- Название:На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.).
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент СПбГУ
- Год:2012
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-288-05324-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Грузнова - На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.). краткое содержание
Особое внимание уделено исследованию объектов поклонения простонародья и выявлению жизненных ситуаций и социальных групп, которые способствовали сохранению и развитию обычаев, отвергавшихся официальной культурой.
Издание рассчитано на историков, этнографов, культурологов, религиоведов, может быть использовано в учебном процессе в качестве пособия для изучения истории русской народной культуры.
На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.). - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Суммируя эту разноголосицу мнений, можно сказать, что под язычеством в применении к русскому Средневековью подразумевается некая застывшая на уровне X в. форма, относительно же более позднего периода предпочитают говорить о синкретической культуре, состоявшей из ряда компонентов, роль которых со временем менялась. К рассматриваемому нами периоду ведущей скрипкой в рамках этой культуры становится православие, стремившееся восстановить чистоту веры и облагородить сумбурные представления паствы – паствы, которая все еще тесно была связана с прежним мировоззрением и, скорее, включала христианские святыни и образы в языческий контекст, видоизменяя старые обычаи на новый лад, нежели пыталась постичь суть проповедуемых священниками ценностей, поскольку традиции всегда «сопротивляются внешним влияниям». [53] Живов В. М. История русского права как лингвосемиотическая проблема // Из истории русской культуры. Т. 2. Кн. 1. Киевская и Московская Русь. М., 2002. С. 666.
Не случайно существует точка зрения, согласно которой языческое мировосприятие сохранялось и, по мнению некоторых авторов, даже преобладало в России не только на протяжении всего Средневековья, но и много позже. [54] Владимиров П. В. Поучения против древнерусского язычества и суеверий // Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Вып. 3. СПб., 1897. С. 195, 223; Дмитриева Е. Н. Языческие мотивы в системе русской народной культуры XIX века. (На примере заговоров): автореф. дис…. канд. ист. наук. М., 2004. 20 с.; Жаркова Е В. Роль язычества в становлении оснований духовного склада русского народа // Социальные и духовные основания общественного развития: межвуз. науч. сб. Саратов, 2004. С. 85; Лавров А. С. Колдовство и религия в России. 1700–1740 гг. М., 2000. С. 79; Мыльников А. С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI – начала XVIII века. СПб., 1999. С. 221. (Slavica petropolitana; 4); Силаков Е. С. Место и роль язычества восточных славян в русской духовной культуре. С. 19; Току нъ А. А. О проблемах методологии исследования язычества Древней Руси. С. 161.
Однако, как отмечают А. А. Панченко и А. А. Буглак, попытки представителей структурно-семиотической школы выявить язычество, отбросив все привнесенные христианством элементы, оказались безуспешными, а реконструкции мифологической картины мира – условными. [55] Буглак А. А. Восточнославянское язычество в белорусской, российской и украинской историографии второй половины XX века: автореф. дис…. канд. ист. наук. Минск, 2003. С. 11; Панченко А. А. Исследования в области народного православия… С. 52–54.
А это означает, что изучать язычество народа, живущего в православном государстве, можно, лишь учитывая феномен синтетической народной культуры.
Хотя последняя сама по себе заслуживает подробного изучения, настоящая работа посвящена только языческой составляющей этого явления в ее развитии. Поэтому, говоря о языческих обычаях и традициях, мы не употребляем терминов, отражающих идею синкретизма, хотя предполагаем его наличие в рассматриваемых сюжетах.
Отбирая источники для нашего исследования, мы исходили из отмеченного Т. А. Бернштам полномасштабного проявления самобытности народной религии «в ходе централизации государства и церкви в XV–XVI вв….Централизованная церковь активизирует борьбу по искоренению „неправедной“ веры народных масс, которые она называет „полуязычниками“: увеличивается поток поучений, постановлений духовных соборов; то и другое никогда полностью до низов не доходило. Реальная христианизация оставалась обязанностью местной – сельской, приходской – церкви, занимавшей и в церковном домостроительстве, и в уровне грамотности служителей, и в авторитете у прихожан на подавляющей территории России крайне низкое положение вплоть до рубежа XIX–XX вв. Будучи частью сельского коллектива – общины или прихода, сельский клир вольно (или невольно) продолжал участвовать в творчестве народной религии». [56] Бернштам Т. А. Русская народная культура и народная религия. С. 95.
В подобной ситуации, по замечанию А. Я. Гуревича, «первым условием успешности „обновления“ христианства была реформа самого духовенства», создание новых кадров. [57] Гуревич А. Я. Средневековый мир… С. 351.
Решению в первую очередь именно этой задачи был посвящен Стоглавый собор 1551 г., попутно обсуждавший и вопросы, связанные с соблюдавшимися простонародьем древними языческими обрядами. В католической Европе аналогичные проблемы поднимались примерно в те же сроки, например, на Тридентском соборе, поскольку и на Западе, согласно наблюдениям А. Я. Гуревича, в конце XV–XVII вв. терпимость в отношении к народной культуре сменяется нетерпимостью и преследованиями, [58] Там же. С. 345.
попыткой обновить искаженное христианство.
Постановления собора 1551 г., получившие в литературе название Стоглава по числу входящих в них статей, являются наиболее важным источником информации по интересующей нас теме, поскольку показывают тот круг «эллинских бесований», который вызывал постоянную озабоченность церкви и государства. Стоглав неоднократно привлекал внимание ученых. Достаточно сказать, что список только основной литературы, посвященной Стоглавому собору, включает более ста наименований. Однако отражение в этом памятнике сохранявшихся в народной среде языческих обычаев и обрядов в качестве самостоятельной темы привлекло внимание лишь одного исследователя – И. М. Добротворского, скрупулезно пересказавшего отдельные фрагменты текста источника. [59] Добротворский И. М. О недостатках русского народа по изображению Стоглава (XVI в.) // ПС. 1865. Ч. 2. С. 128–156.
Он отметил наличие некоторых давних суеверий среди своих современников и показал их противоречие христианству, но не подверг информацию какому-либо научному анализу, так как работа носила нравоучительный характер. Поэтому для нас она не представляет особого интереса, тем более, что за прошедшие с тех пор годы во многом изменились представления о самом памятнике.
В настоящее время уже не обсуждается вопрос о том, был ли Стоглав реально действовавшим правовым актом, хотя в XIX – начале XX в. велась жесткая дискуссия как о его каноничности, так и о подлинности. Существование наказных списков для одних исследователей явилось доказательством официального характера памятника, [60] Беляев И. В. Наказные списки Соборного уложения 1551 г., или Стоглава. М., 1863; Беляев И. Д. Стоглав и наказные списки по Стоглаву // ПО. 1863. Т. 11. С. 189–215; Шпаков А. Я. Стоглав. (К вопросу об официальном или неофициальном происхождении этого памятника) // Сборник статей по истории права, посвященный М. В. Владимирскому-Буданову. Киев, 1904. С. 299–330; Громогласов И. М. Новая попытка решить старый вопрос о происхождении «Стоглава». Рязань, 1905.
другие считали списки его источниками. [61] Добротворский И. М. Каноническая книга Стоглав, или неканоническая // ПС. 1863. Ч. 1. С. 317–336, 421–441; Ч. 2. С. 76–98.; Кононов Н. Разбор некоторых вопросов, касающихся Стоглава // Богословский вестник. 1904. № 4. С. 663–701.
И. Н. Жданов же высказывался в том смысле, что Стоглав является сборником извлечений из соборных деяний. [62] Жданов И. Н. Материалы для истории Стоглавого Собора // Жданов И. Н. Соч. Т. 1. СПб., 1904. С. 188, примеч. 1.
Ныне многочисленные списки Стоглава XVI–XX вв., часто с владельческими записями не только духовных лиц, но и посадских людей, [63] Емченко Е. Б. Стоглав: предполагаемый оригинал полной редакции // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. М., 1990. С. 47, примеч. 9.
рассматриваются как наиболее явное свидетельство того, что это был документ государственного значения. Наличие же разных его вариантов объясняют сегодня тем, что при доведении решений собора до жителей страны «строго следовали принципу, который заключался в том, что до разных слоев населения доводилось лишь то, что их непосредственно касалось. Так, в Симонов монастырь послали главы о монастырских порядках, в города (к церковнослужителям и должностным лицам) – о белом духовенстве и суде; во всеобщее сведение объявили лишь о запрещении сквернословить, брить бороды, лживо целовать крест и ходить к волхвам». [64] Шапогиник В. В. Деятельность митрополита Макария и церковно-политические события в России 40-х – 50-х годов XVI в.: автореф. дис…. канд. ист. наук. СПб., 1998. С. 17.
Интервал:
Закладка: