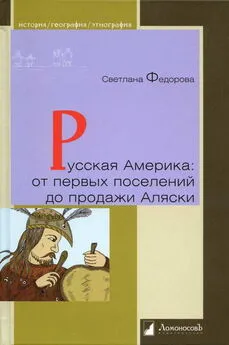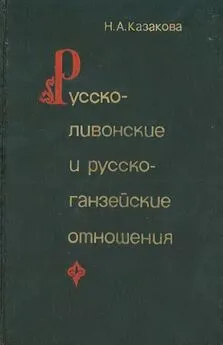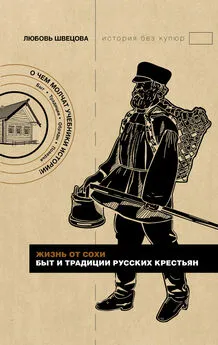Елена Грузнова - На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.).
- Название:На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.).
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент СПбГУ
- Год:2012
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-288-05324-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Грузнова - На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.). краткое содержание
Особое внимание уделено исследованию объектов поклонения простонародья и выявлению жизненных ситуаций и социальных групп, которые способствовали сохранению и развитию обычаев, отвергавшихся официальной культурой.
Издание рассчитано на историков, этнографов, культурологов, религиоведов, может быть использовано в учебном процессе в качестве пособия для изучения истории русской народной культуры.
На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.). - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Наблюдаемый во многих памятниках русской церковной литературы XV в. рост числа статей против языческих обычаев и верований, с одной стороны, и увеличение обличительных выпадов против духовенства – с другой, заставили большинство исследователей говорить о наличии в эту эпоху языческого ренессанса. Подобные представления вызвали справедливое удивление А. И. Алексеева. [10] Алексеев А. И. Исследовательская парадигма «Вызов-и-Ответ» в изучении русской эсхатологии (на материалах Четьих сборников XV в.) // Историческая психология и ментальность. Эпохи. Социумы. Этносы. Люди. СПб., 1999. С. 44.
Безусловно, ни о каком возрождении язычества говорить не приходится, ибо возродить можно лишь то, что уже исчезло, либо находится на грани вымирания. Языческие же традиции на Руси XV–XVI вв. были еще достаточно крепки. Не идет речь и о расцвете языческой культуры – в обществе, где церковь на протяжении нескольких столетий официально провозглашалась государственным институтом, это было бы по меньшей мере странно. Напротив, все свидетельствует о том, что новое дыхание обретало именно христианство, получившее соответствующие условия для нормального развития только после объединения государства и усиления центральной власти. Именно теперь церковь получила возможность составить полную картину положения религии в стране. Нарисовав же себе эту картину, духовенство смогло устранить некоторые нарушения в церковной жизни и наметить пути дальнейшего распространения и развития православия. Именно этим занимался ряд церковных соборов рассматриваемого периода, среди которых особо выделяется Стоглавый, разработавший программу деятельности церкви и государства в религиозно-нравственной сфере. Реванш язычества в подобной ситуации – не более чем видимость, объясняемая тем, что «связь с прошлым объективно наиболее резко ощущалась тогда, когда субъективно господствовала ориентация на полный с ним разрыв». [11] Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Труды по русской и славянской филологии. Вып. 28. Тарту, 1977. С. 36.
В то же время, несмотря на все меры, предпринимавшиеся церковными и светскими властями, традиционное магическое отношение к миру оставалось существенным фактором народной культуры и в эпоху образования общерусского государства, и столетия спустя. Более того, некоторые ученые полагают, что на протяжении всего II тысячелетия продолжался процесс языческого творчества, вовлекавший в сферу древних традиций и элементы христианской культуры. [12] Токунъ А. А. О проблемах методологии исследования язычества Древней Руси // Вопросы истории. 1997. № 4. С. 161.
Существенно, что, строя свою жизнь на отвергаемых церковью принципах, люди могли считать себя вполне добропорядочными христианами, а проявления язычества, как справедливо заметил Е. С. Силаков, далеко не всегда носили осознанный характер. [13] Силаков Е. С. Место и роль язычества восточных славян в русской духовной культуре: автореф. дис…. канд. филос. наук. М., 2000. С. 11.
В середине XIX в. приходские священники с горечью отмечали, что даже если население после разъяснений батюшки и по его настоянию отказывалось оставить какое-либо суеверие, то вскоре вновь к нему возвращалось. [14] Листова Т. А. Религиозно-общественная жизнь: представления и практика // Русский Север: этническая история и народная культура. XII-ХХ века. М., 2001. С. 717.
Происходило это вовсе не потому, что миряне не видели в своих обычаях противоречий христианству, как полагает Т. А. Листова и другие авторы. Вопрос о характере веры для простого народа представлял собой ученую схоластику, в которую крестьяне вникать не желали. Единственным критерием правильности тех или иных действий был для них практический опыт повседневного бытия. И если после отказа от «суеверий» начинались какие-либо проблемы, возврат к отвергнутым обычаям становился неизбежным.
Аналогичная ситуация была нормальной и для XV–XVI вв., когда православная церковь лишь начинала борьбу за умы верующих, пытаясь показать пастве разницу между двумя мировоззренческими системами, а не только между обрядовой практикой христиан и язычников.
В настоящем исследовании, представляющем собой существенно расширенный и частично переработанный вариант кандидатской диссертации автора, прослеживаются как следы этой борьбы, так и место собственно языческих традиций в жизни низших слоев русского общества конца XV–XVI вв., тенденции их развития и роль в дальнейшем формировании народного мировоззрения и быта.
Глава 1
Обзор источников и литературы
Приступая к обзору привлекаемых к исследованию источников и литературы, автор должен особо остановиться на общетеоретических трудах по языческой и средневековой культуре (ибо язычество является одним из существенных компонентов последней). Дело в том, что рассматриваемые нами памятники не употребляют слово «языческий». Единственный раз сравнение с язычниками, заимствованное из Священного Писания, делается в 50-й главе Стоглава, посвященной монахам, отказывающимся искупить грех и повиноваться церкви – таковые «буди якоже язычник и мытарь». [15] Царския вопросы и соборныя ответы о многоразличных церковных чинех (Стоглав). М., 1890. С. 242; Смоленская «наказная» грамота Всероссийского митрополита Макария по рукописи прот. Александра Горского из собрания МД А № 108. (Из истории Стоглава). М., 1996. С. 183.
В контексте же поднятой нами темы звучат совсем другие термины.
Отечественный специалист в области древнерусского языкознания О. А. Черепанова обратила внимание на понятийно-тематическую группу «общих наименований язычества, ересей и вообще всех тех религиозно-нравственных явлений, которые шли вразрез с христианско-церковной догмой ( идолопоклонение, идолослужение, бесование, еллинская прелесть ), а также связанных с этим обрядов, обычаев, действ». [16] Черепанова О. А. Наблюдения над лексикой Стоглава. (Лексика, связанная с понятиями духовной и культурной жизни) // Русская историческая лексикология и лексикография. Вып. 3. Л., 1983. С. 18–19.
В отношении последних в источниках используются такие выражения, как еллинское бесование, бесовское служение, богомерзские прельщения, неподобные дела, поганский обычай, дьявольское действо и др. Сосредоточившись на одном из них, О. А. Черепанова утверждает, что «зарождение традиции употребления слова эллин в значении язычник восходит к раннехристианской литературе», вместе с которой оно пришло на восточнославянские земли. «Борьба с язычеством на Руси, затем с еретическими движениями, тенденция к приспособлению традиционной лексики к новейшим потребностям способствовали втягиванию элементов лексико-словообразовательного гнезда на базе ‘эллин’ в семантическое поле ‘язычество, нехристианское мировоззрение’ и к XV–XVI вв. в него входил целый ряд слов». [17] Там же. С. 19.
Интервал:
Закладка: