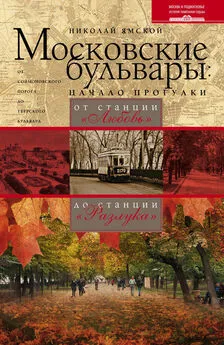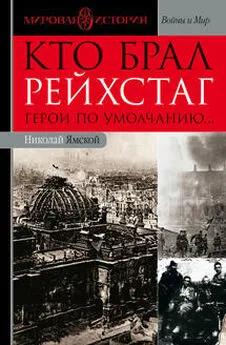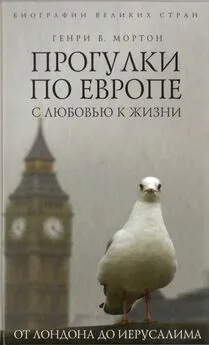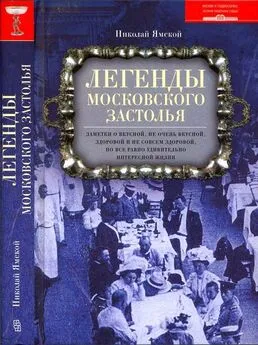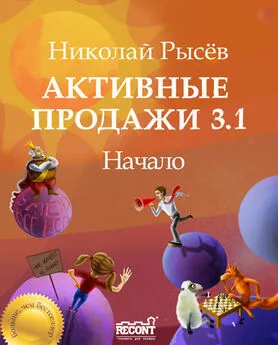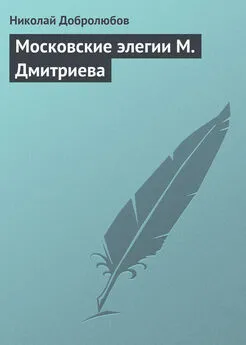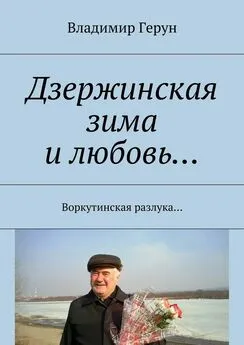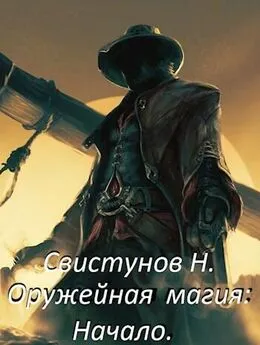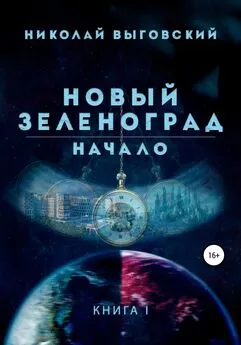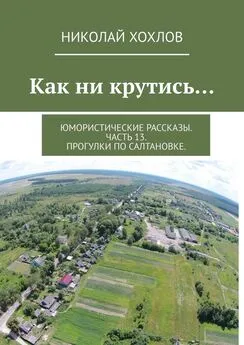Николай Ямской - Московские бульвары: начало прогулки. От станции «Любовь» до станции «Разлука»
- Название:Московские бульвары: начало прогулки. От станции «Любовь» до станции «Разлука»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-03751-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Ямской - Московские бульвары: начало прогулки. От станции «Любовь» до станции «Разлука» краткое содержание
Итак, начнем прогулку по большим московским бульварам, которые ничуть не хуже, а может, и много лучше парижских. В этой книге автор проведет читателя из всего десятикилометрового пути лишь первую треть. Но сколько жизней и историй вмещает этот отрезок!
Московские бульвары: начало прогулки. От станции «Любовь» до станции «Разлука» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вот уж, кстати, материал такой прочности, про который ну никак не скажешь, что он может «устареть» или «обветшать»!
В буднях великих строек
Фальк, пребывавший, напомним, с 1927 года в творческой заграничной командировке, вернулся домой десять лет спустя. И сразу же попал в совершенно иную Москву.
Страной безраздельно правил Сталин. Под покровом ночи по городу шастали тюремные «воронки», замаскированные под фургоны с надписями «Хлеб» и «Мясо». По совершенно надуманным, зачастую откровенно издевательским по своему идиотизму обвинениям людей выхватывали прямо из постели и везли на допрос. В лубянских кабинетах и расстрельных боксах НКВД в Варсонофьевском переулке просто зашивались от работы. Днем же по какому-то чудовищному контрасту все сливалось в общем шуме парадных маршей и спортивных праздников. Временами казалось, что весь народ только и делает, что «радостно трудится да весело смеется» и дружным хором выводит: «Нам песня строить и жить помогает!»
Где много шума, там мало мысли
Однако под ту же песню и в той же Москве без всякого разбора – а порой и даже особого смысла – ломали, сносили, выкорчевывали. Причем это только с первого взгляда казалось, что вырубают всего-навсего яблоневые посадки на Садовом кольце или при расширении улицы Горького уничтожают какую-то историческую застройку. На самом деле обрубали вековую связь поколений, сравнивали с землей уникальные памятники старины, рушили людские судьбы и даже обрывали чью-то жизнь. Тот же Соймоновский проезд, утратив вместе с храмом Христа Спасителя окружающий его сквер, поначалу просто-напросто оголился. А затем и вовсе превратился в обочину огороженной дощатым забором строительной площадки с ее суетой, пылью и грохотом.
В месте разрыва
В этом шуме звоночки трамвайной «Аннушки» если и не тонули окончательно, то прорывались с огромным трудом. И звучали ностальгически, словно предчувствуя скорое окончание своей четвертьвековой беготни вокруг Белого города. В таком виде маршрут линии «А» просуществовал до 1936 года, когда были сняты рельсы на набережных у Кремля. Правда, и после этого «Аннушка» целый год все равно ходила кольцевым маршрутом: ее временно пустили по объездному пути через Болото и Балчуг. Но потом началась реконструкция мостов через Москву-реку. И кольцо разорвалось окончательно, потому что конечными пунктами стали Павелецкий вокзал и станция метро «Дворец Советов» (ныне «Кропоткинская»).
Сама эта станция на выходе Гоголевского бульвара к площади Пречистенских Ворот появилась в 1935 году – одновременно с пуском в эксплуатацию первой очереди столичного метрополитена. А до этого на этом месте несколько лет стояла огороженная дощатым забором площадка с метростроевской шахтой.
К вопросу о неоднозначной природе «исторического оптимизма»
Другой, куда более протяженный забор из теса начинался уже за площадью. Отхватив местами проезжую часть, он сплошняком тянулся по всему проезду. И, завернув по набережной Москвы-реки в сторону Большого Каменного моста, растягивался еще метров на триста. Работы по нулевому циклу на окруженной забором стройке, которая охранялась как режимный объект, с улицы, конечно, не просматривались. Но зато, когда начался монтаж огромного металлического каркаса будущего здания Дворца Советов, процесс уже можно было наблюдать воочию. Балки, которые составляли основу конструкции, изготовлялись из особой прочности стали, специально созданной для возведения данного объекта. Она даже маркировалась по начальным буквам его названия, то есть «ДС».
Монтаж будущего архитектурного колосса начался довольно бурно. Однако со временем стал все более приобретать какой-то судорожно-импульсивный характер. Что, впрочем, на первых порах не вызывало у большинства никаких сомнений. Тем более что уже вошло в привычку: если партия говорила «Надо!», народу полагалось бодро отвечать «Есть!».
Даешь «мировую кричалку»!
Правда, обитателям нечетной жилой стороны Соймоновского проезда «исторический оптимизм» давался с трудом. Очень уж это ощущение подрывало предчувствие неотвратимо надвигающейся на них беды. Ведь по сталинскому Генеральному плану реконструкции Москвы из-за возведения Дворца Советов весь их ряд – от бывшего дома Перцова до углового с Остоженкой строения номер 9 и на всю глубину вплоть до 2-го Обыденского – попадал под снос. Уникальный исторический уголок Москвы собирались радикальным образом «преобразовывать и благоустраивать». А как же иначе? Ведь в планах «освоения» прилегающих к будущему дворцу территорий архитекторам уже была дана команда проектировать «трибуну трибун» для вождя и его соратников. И вообще, всячески расширять территориальную зону «всесоюзной вышки», откуда, по словам пролетарского стихотворца Демьяна Бедного, «мощным кличем на раз на весь мир прокричит наших слов динамит».
«Спасайся, кто может!»
Понятно, что позволить себе не попасть под каток грядущего массового отселения с «мутными» перспективами в виде «подселения» и, пока не поздно, самим подыскать себе новое жилье могли лишь единицы. Для подавляющего большинства граждан СССР квартирный вопрос как был, так долгие еще годы и оставался самым трудноразрешимым. Даже те, кто был достаточно состоятелен, чтобы вступить в только-только тогда появившиеся немногие кооперативы, оставались за бортом. Потому что требовалось еще признание у претендента особых заслуг перед советской властью. Или уж слава такого вселенского размаха, чтобы даже высшие «небожители» из партгосаппарата просто так отказать не могли.
Ильфу и Петрову в этом плане подфартило. После выхода второй книги о приключениях Великого комбинатора их популярность в среде читающей публики достигла грандиозного масштаба. Поэтому «за так» им жилищные условия хоть и не стали улучшать, но и палки в колеса при вступлении в один из первых литфондовских кооперативов в Нащокинском переулке ставить не стали. В начале 1934 года Ильфы и Петровы, приобретя по небольшой, но отдельной квартире, наконец-то там воссоединились.
Дорога к храму
Особый путь улучшения своих жилищных условий был уготован старожилу из дома номер 7, который, напомним, до 1917 года принадлежал храму Христа Спасителя. Обстоятельства его проживания по данному адресу, дальнейшая карьера и заслуги перед СССР и даже – как показало будущее – перед нынешней Россией оказались таковы, что грех об этом человеке хотя бы в нескольких абзацах не упомянуть.
В начале прошлого века редкой красоты «серебряный» голос и музыкальный талант привели этого простого рязанского паренька – выходца из небогатой крестьянской семьи сначала в Петербургскую, потом Московскую консерватории. В своей специализации – сочинение церковных песнопений – он определился очень рано. Что при его одаренности, увлеченности и огромном трудолюбии не могло не дать результата.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: