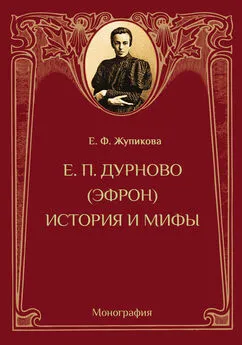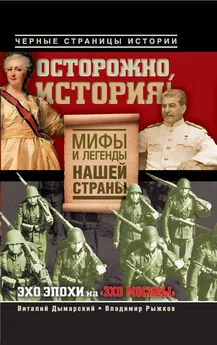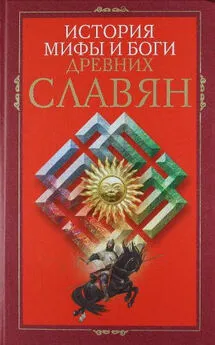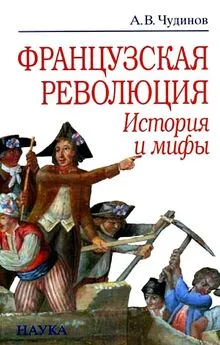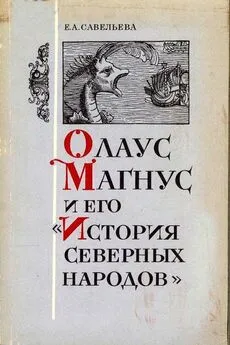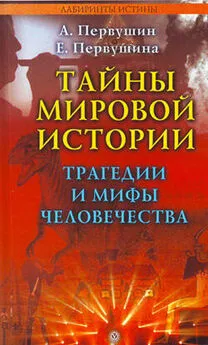Елена Жупикова - Е. П. Дурново (Эфрон). История и мифы
- Название:Е. П. Дурново (Эфрон). История и мифы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Прометей»
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7042-2350-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Жупикова - Е. П. Дурново (Эфрон). История и мифы краткое содержание
Е. П. Дурново присутствовала на их открытии в 1872 г.
Сведения о жизни Е. П. Дурново (Эфрон), её семьи и близких буквально переполнены мифами, легендами, неточностями, недостоверностями, домыслами, многие из которых не только не развеяны, но число их даже возрастает.
Монография на основании (в основном) архивных источников восстанавливает истину, отрывки из документов приведены в приложениях.
Е. П. Дурново (Эфрон). История и мифы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Никанор Иванович скончался в Шуе в июле 1831 г. от холеры. Наследники его получили около 1 млн. руб. серебром. Эти сведения приведены научным сотрудником Ивановского областного архива М. Малыгиной в «Ивановской газете» за 1998 г. [45] Малыгина М. Не только именитые, но и передовые // Ивановская газета. 1998. 16 сентября. № 178.
Достоверные сведения о купцах Посылиных, о бабушке Лизы, Александре Ивановне Посылиной, любезно сообщил работавший в Ивановском областном архиве Е. С. Ставровский в своем письме от 09.09.2000 г. из Шуи в ответ на наши вопросы.
Он пишет, что купцы Посылины – одна из самых богатых и известных купеческих династий в истории Шуи. Информация о них имеется во «Владимирских губернских ведомостях» и «Владимирских епархиальных ведомостях», издававшихся до революции. Кое-что о них написано в последнее десятилетие в «Шуйских известиях» и в «Ивановской газете».
Среди сыновей Ивана Максимовича, основателя купеческой династии, всегда упоминаются Алексей и Степан, а Никанор – очень редко, наверное, как рано умерший. Очень скудна информация о нем и в областном архиве. Автору письма дел о Никаноре Ивановиче не попадалось и в наиболее ценном для изучения купечества фонде № 21 (Шуйская городская дума).
С. Е. Ставровский сообщил, что «… Вторую жену Никанора Ивановича, действительно, звали Александрой Ивановной. Фамилия ее – Корноухова. Происхождение ее мне точно неизвестно, но ее дворянское происхождение, по-моему, больше легендарно, чем правдиво … К сожалению, мне пока не попалась информация о венчании Александры Ивановны и Никанора Ивановича. Год венчания, по моим данным, – 1819, только не знаю, где они венчались. Учитывая, что год ее рождения, по архивным данным, примерно 1806, то это хорошо совпадает с Вашими данными о ее раннем замужестве».
Автор письма утверждает, что Никанор Иванович умер не в Шуе, а в Нижнем Новгороде, где он был на ярмарке.
«Что же касается “дележки” наследства Н. И. Посылина (после его смерти), то имеется около десятка дел в фонде № 156 (Сиротский суд). Здесь, прежде всего, дела об опеке над малолетними дочерями Никанора Ивановича, а также есть дела о выделении капитала вдове и дочерям», – сообщает С. Е. Ставровский.
Сверим эти сведения с воспоминаниями Анны Яковлены Трупчинской. Она пишет, что Петру Аполлоновичу, когда он задумал жениться, «указывают на сироту из богатой купеческой семьи. Отец ее давно умер, а мать дала своим трем дочерям прекрасное образование».
Старшая сестра Е. Н., по словам А. Я., вышла замуж за старика Зерщикова, «важного чиновника», средняя была горбатая и «о женихе не мечтала», а младшая, Елизавета, которая «хорошо играет на арфе и рояле», к которой «приглашали учителей для занятий» и которая «хорошо вышивает», стала женой Дурново. «Она показалась ему скромной и недурной». К тому же она, как говорит А. Я., «глубоко полюбила П. А., хотя он откровенно признался ей в своих денежных затруднениях, и отдала все принадлежавшее ей состояние в его полное распоряжение».
По словам И. Жук-Жуковского, Петр Аполлонович Дурново – «красивый, представительный мужчина, блестящий ротмистр лейб-гвардии, человек широкой натуры, обладая большим обаянием, был баловнем женщин, имел массу увлечений и романтических историй; Елизавету Никаноровну тот же автор называет скупой, мелочной, ревнивой … Жизнь при такой разнице характеров сложилась не совсем удачно.
Как свидетельствует А. Я., П. А. «хотел перевоспитать жену, научить светским манерам и умению вести себя в обществе», но безуспешно. Она «была вспыльчива, заносчива, подозрительна, недоверчива и поразительная хозяйка. В обществе она совершенно не умела себя держать – она не имела общих интересов с тем кругом, в котором вращалась. Умственно она переросла его. Она в нем скучала, не желая этого показать, вечно не попадала в тон: то мила, то важничала, то унижалась» [46] РГАЛИ. Ф. 2962. Оп. 1. Д. 338. Л. 30.
. С гораздо большей симпатией говорят воспоминания
А. Я. Эфрон-Трупчинской о матери Е. Н., Посылиной Александре Ивановне, которая жила в доме дочери. Она происходила из бедной дворянской семьи. Замуж ее выдали, когда ей было 12 или 14 лет, за богатого, пожилого вдовца, у которого уже было две дочери от первого брака. Мать якобы сказала Саше, что если она хочет иметь красивое подвенечное платье, как у соседней девушки, ей надо выйти замуж за соседа Посылина. Девочка согласилась.
Как следует из воспоминаний, Никанор Иванович с женой жили в Москве. К моменту его смерти у них было трое детей. После смерти мужа, не получив доли причитавшегося ей наследства, А. И. вынуждена была уехать с детьми в Шую к родственникам мужа, в семью, чужую ей по быту и культуре, где издевались над тем, как она воспитывает детей, что не умеет даже влезть на русскую печку.
В отчаянии Александра Ивановна решилась на смелый шаг: она бросилась на колени перед санями царя, когда он проезжал через г. Владимир, и подала ему прошение о выделении ей и детям доли наследства. Вскоре якобы пришло решение: из капитала Посылиных выделить вдове 100 тыс. руб. на прожиток, а девицам по 30 тыс. на приданое.
Александра Ивановна возвращается в Москву, устраивает жизнь по-своему: много читает, встречается с образованными людьми, учится. Правнучка пишет, что она, видимо, примыкала к масонам: «сохранились кольца с черепом Адамовой головы, круг и треугольник на печатях – знаки, по которым масоны узнавали друг друга, а также масонская библиотека». Комната А. И. «была завешана иконами», и тут же висел портрет масона Мосолова».
И. Жук-Жуковский считает, что бабушка оказала благотворное влияние на Лизу: приучила ее к самостоятельности, уважению к людям и любви к свободе. Об этом же говорит и А. Я., записавшая рассказ матери «о первом жизненном уроке, полученном ею от бабушки». Поймав в саду небольшую птичку, Лиза показала ее бабушке. «Зачем тебе она?» – «Я посажу ее в клетку и буду любоваться». Девочка хотела уйти, но бабушка крепко удержала ее за руку и не выпустила до тех пор, пока Лиля расплакалась после тщетных попыток вырваться. Помолчав, бабушка сказала: «Вот видишь, ты не выдерживаешь неволи в течение получаса, тебе хочется бегать, резвиться, а что ты собираешься делать с птицей? Ты посадишь ее в клетку ради своей забавы и лишишь свободы навсегда. Немедленно отпусти ее на волю».
А. Я. пишет, что бабушка с большой гуманностью относилась к крепостным, ее тактичное поведение было примером для девочки, очень полюбившей ее и постоянно убегавшей к бабушке, где ей было хорошо, от именитых гостей своих родителей. Лиза спала с ней в одной комнате.
Петр Аполлонович настаивал, чтобы дочери взяли гувернантку. «Чему может научить ее твоя мать? – спрашивал он жену. – Девочка имеет вид дикарки, не умеет держать себя в обществе, старуха ее удаляет от нас». Елизавета Никаноровна возражала: «Моя мать – хорошая воспитательница». Она не без оснований опасалась, что П. А. будет опять изменять ей с гувернанткой и опять «в доме будет ад».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: