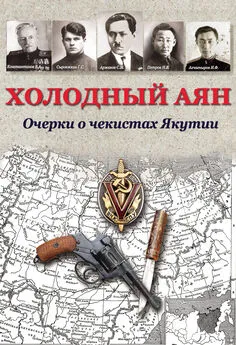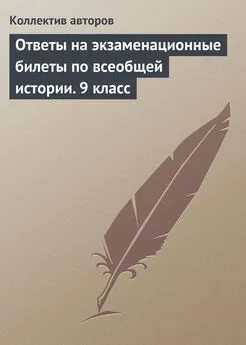Коллектив авторов - Югославия в XX веке. Очерки политической истории
- Название:Югославия в XX веке. Очерки политической истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Индрик
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91674-121-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Югославия в XX веке. Очерки политической истории краткое содержание
Для историков и широкого круга читателей.
Югославия в XX веке. Очерки политической истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эта патриархальная модель общества (согласно старой формуле: сербский народ – сообщество равных) не была для соратников Пашича некоей самоцелью. В условиях незавершенности процесса всесербского освобождения и объединения она становилась средством и формой консолиции сербов королевства, поскольку малая расщепленность интересов внутри социума позволяла сохранять единство народного духа – важнейшую внутреннюю предпосылку будущего освобождения. Социальное равенство, как видим, отождествлялось в глазах радикалов с национальным единством… И эта их политика в нужное время увенчалась полным успехом – объясняя подоплеку всеобщего подъема, захлестнувшего Сербию в начале Первой балканской войны, русский корреспондент писал: «В ряду причин того удивительного объединения, которое приходится наблюдать здесь, следует, разумеется, отметить и сравнительную неразвитость социальных отношений, а, следовательно, и социальных антагонизмов. Личность не успела еще выделиться из коллектива, а экономическое развитие не успело вырыть психологической пропасти между управляющими и управляемыми» 166.
Теперь о самом мышлении. Известно, что одной из базовых традиционалистских установок является идея преемственности , т. е. «солидарности поколения живущего с поколениями умершими» 167, или «участия минувших поколений в современности» 168.
Особо наглядно оно проявлялось в подходе родителей к воспитанию детей, когда, по наблюдению П.А. Ровинского, отцы заставляют своих чад «выучивать в виде катехизиса историю падения сербского царства на Косовом поле, причем делают такие выводы, что Милошу Обиличу – на вечные времена слава, Буку Бранковичу – проклятие, а турку и швабу нужно посечь голову» 169. И снова следует подчеркнуть, что с течением времени в данной системе воспитания мало что изменилось. Спустя почти полвека после путешествия Ровинского другой русский автор констатировал: «Когда старый дед учит внука владеть саблей или кинжалом, тогда жилище серба наполняется избытком высокого наслаждения и удовольствия… Преемственно, от поколения к поколению, передаются имена освободителей народа от турецкого ига, и в честь их слагаются песни» 170.
Образованные сербы, признавая явный перекос «героического» воспитания, тем не менее объясняли его необходимость: «Видите, в каком мы положении: мы должны из наших детей готовить вместо гуманных граждан – диких солдат, потому что нам еще грозит война с турками… с которыми нужно мериться тем же оружием, каким и они пользуются против нас» 171. Этот мотив грядущей войны и необходимости подготовки к ней с самого «нежного» возраста тиражировался на всех уровнях. Уже известный поп Милан Джурич с парламентской трибуны требовал от учителей так воспитывать детей, «чтобы они знали заветную мысль (об освобождении и объединении сербства. – А.Ш.), знали о косовских героях и в будущем, став гражданами, отомстили бы за Косово». Или другой его пассаж – «Мать пасет овец или жнет ячмень и пшеницу, но при этом поет сыну песню и готовит его к отмщению Косова» 172.
Как видим, героическое начало закладывалось в сербских детей с младых ногтей, что не могло не сказаться на формировании их мироощущения, какое всегда оставалось сугубо конфронтационным, в рамках оппозиции свой-чужой. И когда чужие менялись, т. е. когда к туркам после 1878 г. добавились «соседи» из-за Савы и Дуная, отношение к ним оставалось столь же жестким и одномерным. В «Катехизисе для сербского народа» читаем: «Кто неприятель сербов? – Самый главный враг сербов – Австрия… Что нужно делать? – Ненавидеть Австрию, как своего самого главного врага… Кто друг сербов и Сербии? – Единственный искренний и надежный друг сербов, который был и есть – это великая и мощная Россия. В чем же долг каждого серба? – Любить свое отечество и монарха и умирать за них, уважать своих друзей и ненавидеть врагов» 173.
Такой подход проявляет себя особенно контрастно в сравнении с другим – как раз современным – типом мышления. Иллюстрации ради, приведем диалог Владана Джорджевича (воспитанного в Европе и отнюдь не фанатика-радикала, вроде М. Джурича) с чешским национальным деятелем Франтишеком Ригером. На замечание Ригера о том, что «австрийское ярмо становится для чешского народа слишком тяжелым», собеседник задал естественный для всякого серба вопрос: «Почему же тогда чешский народ не сбросит его?». На что был получен характерный ответ: «Народ, у которого почти в каждом втором доме стоит пианино, не поднимает революций» 174. Перед нами – два наглядных проявления двух систем мышления“, когда вторая «стремится приспособить идеал к реальности», а первая – «осуществить на практике неосуществимый идеал» 175.
Кстати, о фортепиано. В 1898 г. (двадцать лет спустя после беседы Джорджевича и Ригера) в старой сербской столице Крагуеваце имелось одно-единственное пианино, принадлежавшее переселенцам из Срема 176. Музыкальные запросы сербов из королевства были иными – героические песни, исполняемые на гуслях, помогали им усиливать «участие минувших поколений в современности». Современник так описал финал исполнения одной из них: «А когда дело дошло до Бука Бранковича, что выдал царя на Косове, и пропел ему певец: „Проклят будь и род его и племя!“ – „Проклят!“, крикнули все и повскочили с мест, как будто ища изменника, предавшего сербство» 177.
И, как вполне закономерный итог, – страна производит «впечатление какого-то полувоенного лагеря», что все в ней «временное, неустановившееся, все в каком-то ожидании чего-то, что вся она живет накануне , вся в каком-то воинственном настроении» 178. В результате – «во имя постоянно грозящей войны Сербия жертвует своими истинно человеческими интересами», ибо «на такой почве трудно ожидать, чтоб могли пустить глубокие корни гуманизм и гражданственность» 179. [41]
И, действительно, коллективный портрет серба второй половины XIX – начала XX в. вполне можно было подписать – Homo Militans 180, или «человек вечной войны», как его окрестили русские очевидцы 181. Явления такого рода (Humanitas Heroica) свойственны культурам «пограничья», каковым издавна были Балканы, формируя своеобразную этику поведения и идеалы героизма. Характерными чертами «образцового» защитника своего этноса и культуры в условиях иноцивилизационного соседства являются те, которые объединены «драматизмом мученичества» 182.
Именно здесь, как представляется, корни «популярности» войны у сербов [42].
Поэтому-то, когда настала пора решающих схваток – во имя отмщения Косова, – они (словно доказывая мысль В.О. Ключевского, что «цементирующая сила – традиция и цель» 183), как один, пошли в бой, да так, что видавшие виды русские дивились: «Здесь узловой пункт. Нет шума, нет пьяных, нет плачущих женщин. Вообще ничего похожего на наши родные картины при отправке на войну запасных». И в глазах провожающей сына матери «ни единой слезинки». В них только одно: «Напред, сине, с Богом!» 184 [43].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: