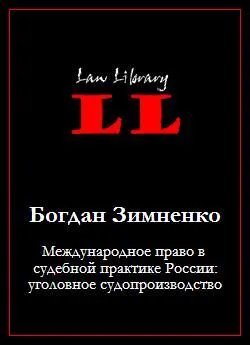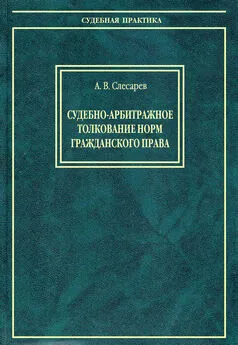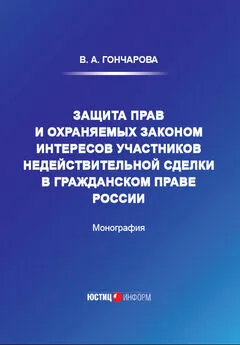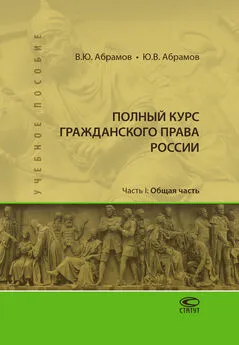Николай Дювернуа - Источники права и суд в Древней России. Опыты по истории русского гражданского права
- Название:Источники права и суд в Древней России. Опыты по истории русского гражданского права
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Юридический центр»
- Год:2004
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-94201-345-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Дювернуа - Источники права и суд в Древней России. Опыты по истории русского гражданского права краткое содержание
Книга рекомендуется преподавателям, аспирантам и студентам, всем интересующимся историей российского государства и права.
Источники права и суд в Древней России. Опыты по истории русского гражданского права - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мы обратили, таким образом, внимание на различные черты Русской Правды, которые считали важными для вопроса о развитии юридической догмы в Древней Руси. Как произошел этот сборник, какие элементы можно в нем различать, или, по крайней мере, предполагать, какой строй его положений, чем условливалось его значение, все это близкие, родственные, друг друга условливающие вопросы. Может быть, при более совершенной обработке памятника, мы могли бы короче и проще разрешать и разделять все эти вопросы, может быть, тогда было
бы достаточно сказать, что такая-то статья – устав, такая-то – пошлина, а такая-то – судебное решение. Но ведь нас никто не научил, как различать суд от закона в древнюю эпоху, никто не показал границы, где в праве действует само лицо, где община, где власть князя. Мы сами должны отыскивать все эти признаки и все эти границы. При таких условиях понятно, что говоря о догме права, мы легко уходим за пределы строго взятого вопроса, рассматриваем лицо в его отношении к общине, говорим о самозащищении, о точках опоры, при существовании которых возможен этот способ защиты права, о субъективной и отчасти определяемой отношением лица к общине или к князю мере вознаграждения, говорим в одно время и о суде и о законе, ибо в древности все это различается далеко не так ясно, как теперь. Мы отмечаем в памятнике признаки всех органов, которые действовали в развитии юридической догмы, и по свойству ли предмета, или по малой его разработке, другого способа изучения мы не представляем себе. Где нет твердой границы между судом и законом, где допускается самосуд, там и лицо является с характером автономическим, тем более такой характер имеет община. Ни различный род деятельности (судить, давать законы), ни различные органы для всякого рода деятельности вовсе еще не обособляются. В одном акте какого-нибудь князя заключается столько элементов, что нам долго надо расчленять их, чтоб перевести на наш язык все, что содержит акт. Изяслав уставил в своем конюхе, его же убили дорогобужцы, 80 гривен. Тут есть элемент личного удовлетворения, тут есть судебный приговор, тут есть закон, ибо до тех пор о 80 гривнах для конюха не знал никто. Не менее сложные элементы можно различить в действии частного лица, которое отказывается от мести, призывает содействие власти, требует головщины с головника, также действует община, которая безнаказанно предает разграблению княжеских тиунов, угнетавших народ продажами. Везде есть характер самосуда (новгородцы прилагали это понятие к князьям, как и к частным лицам: «самосуда не замышлять») и автономии. Мы вольны называть такой порядок господством дикого произвола, если не хотим спокойно наблюдать исторические явления.
Но в этом порядке возникают и слагаются первые твердые основы общежития. Здесь образуется Русская Правда. Из сферы провонарушений догма переходит мало-помалу в область определения свободных имущественных и личных отношений. Рядом с практикой суда по преступлениям образуется практика судов по сделкам, по договорам, по наследству. Словом, право развивается, несмотря на то, что мы не находим ни привычного нам разделения властей, ни специальных органов для всякой отрасли юридической деятельности.
Переходя к обозрению второй половины академического списка, мы прежде всего должны обратить внимание на то, что весь характер его резко различается от Ярославовой Правды. Это крайне отрывочный и дурно расчлененный ряд статей. Две черты в порядке суда выступают в нем с особенной ясностью. Это разделение платы за убийство между убийцей и общиной, к которой он принадлежит, в разных случаях убийства (если убийцу не ищут, в разбое) и существование штрафов в пользу князя по разным родам преступлений. В сочинениях специальных об этой части Правды (Нейман в Studien zur gründlichen Kenntniss der Vorzeit Russlands, стр. 52–86, у г. Калачова, стр. 17. Нам случилось видеть эту редкую книгу, но не в публичных библиотеках) или в сочинениях по уголовному праву (гг. Попова, Богдановского, Ланге в архиве г. Калачова) эти явления рассматриваются подробно. Оба главных признака, отличающих дополнения детей Ярослава от старой Правды, не могли составлять явления совершенно нового, созданного законодательной деятельностью этих князей. Община, конечно, не в первый раз при Изяславе подверглась взысканию виры в пользу князя. Учреждение виры вовсе не создано законодательным актом. Князья только пользуются этим учреждением для целей суда. Из многих положений этой 2-й половины Правды можно заключить, что автономия общины и вместе, конечно, власть суда все более стесняется. В 19-й ст. видно, что община, на земле которой лежит голова убитого, обязана сыскать убийцу или заплатить виру. Статьи, запрещающие без княжа слова оумоучить (наказать) смерда, огнищанина, тиуна, мечника, по всей вероятности направляются к той же цели. Везде границы самосуда определяются возможно тесным образом. Убить на месте преступления можно только ночного татя. Если его додержат до света, то вести его на княж двор. Община (люди) является уже в качестве свидетеля событий. Но начало подчинения идет гораздо далее. В этой же редакции Правды мы встречаем непрерывные назначения продаж, т. е. штрафов князю по таким преступлениям, которые очень долго могли сохранять характер частных правонарушений, обиды и, стало быть, окупаться посредством удовлетворения одного обиженного. Ввиду этих несомненных свидетельств весьма странно встретить мнение, что частная месть за убийство пережила вторую Правду. Это мнение принадлежит Нейману и держится на очень слабых основаниях. Нейман тогда лишь пришел бы к убеждению об отмене мести, когда это было бы прямо сказано в Правде. Не подлежит сомнению, что при Изяславе сын, который убил убийцу своего отца, не рассматривался как разбойник. Для этого есть аналогия в другом случае самосуда, предусматриваемом ст. 36 Тр. сп. Здесь читаем, что за татя, которого видели связанным и которого убили вместо того, чтоб вести к князю, – назначается плата, но только 12-гривенная. Таким образом, самосуд отличался от простого убийства. С другой стороны, община всегда могла не выдавать князю таких людей, принимая на себя уплату виры. Но это не дает нам права считать частную месть правомерным средством во времена Изяслава так же, как при его отце.
В известном рассказе летописи о белозерских волхвах, на которых Ян призывает месть родственников, нельзя видеть доказательства существования частной мести, ибо Ян сперва судил волхвов, а потом велел их бить тем, чьих родственников они убили. На угрозу бедствиями, к которой прибегают волхвы, Ян отвечает: «аще вас пущю, то зло ми будет от Бога». Это не была частная месть, которая могла иметь тот или другой исход, – это было наказание руками обиженных.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: