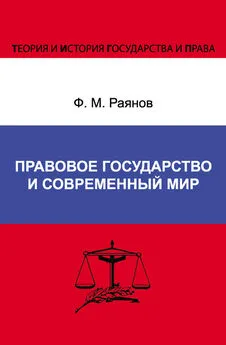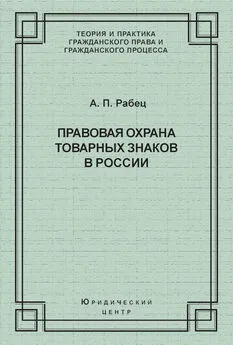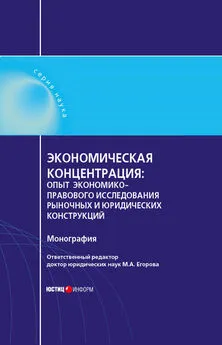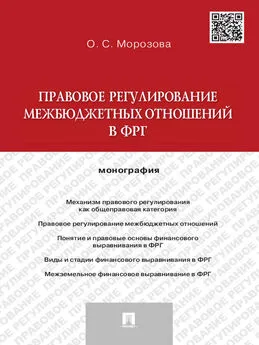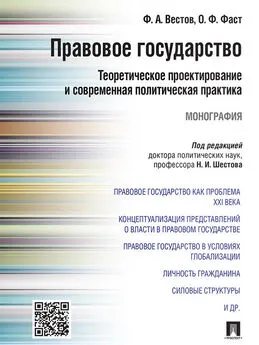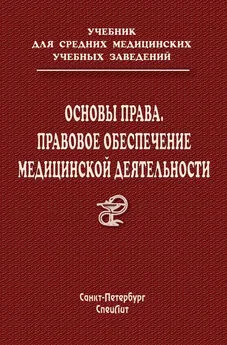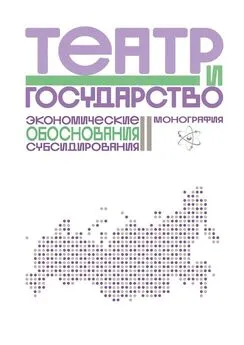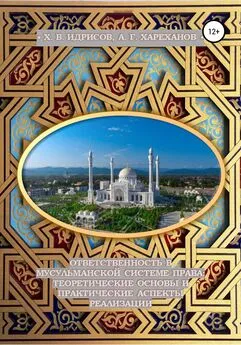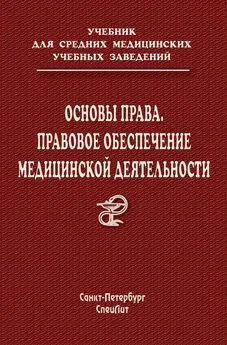Константин Арановский - Правление права и правовое государство в соотношении знаков и значений. Монография
- Название:Правление права и правовое государство в соотношении знаков и значений. Монография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Проспект (без drm)
- Год:2015
- ISBN:9785392197613
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Арановский - Правление права и правовое государство в соотношении знаков и значений. Монография краткое содержание
Правление права и правовое государство в соотношении знаков и значений. Монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Инквизиционное правосудие – трудное дело с большими целями, от которых, однако, человечеству уже не отказаться, пока оно остается собой в том виде, как сложилось, особенно после Христа. Целям этим придется в чем-то следовать, может быть, и по видимости. И даже если бы перевелись на свете люди, верующие в Господа, волю Его и человеческое с Ним соработничество, то кто-нибудь все равно бы остался в обмирщенной, но духовной инерции и традиции с верой в истину и со стремлением к ней в моральных своих состояниях и мотивационных составах.
Как бы, однако, истиной ни дорожили, а в безыдейном здравомыслии и в неизгладимых чертах старой этики человек почувствует и поймет иногда, что доказывать в суде можно и нужно не все, что покажется важным, а только то, что относится к делу и лишь так, как это позволяет закон. В таком представлении вместо недостижимой истины для справедливого суда необходимо и достаточно будет, как встарь, исполнить законные процедуры, не исключая подчиненных им современных средств собирания, обработки и анализа информации, чтобы дело окончилось так, как это должно произойти под властью закона. В идеалах истины придется тогда потесниться и что-нибудь уступить, чтобы суд с изъятиями из полной всесторонности взял во внимание то, что достанется ему от сторон. Истина, наверное, тогда не просияет, зато суд не поставит стороны в неравное перед собой положение, не вручит им подозрительных преимуществ и не даст поводов думать, что сторона «потеряла процесс» не по закону, а по несправедливому своеволию. И хотя думать так можно даже без поводов, все-таки с поводами недоверия, опасного для правосудия, становится больше.
Так и «дружат» в правосудии этика духа и законоверие, готовые разойтись и друг друга оспорить. Их сочленения непрочны, и даже подходящих названий им не найти – «состязательная истина», например, звучала бы как оксюморон, как «убогая роскошь» или немыслимый «рубленый бифштекс». Даже афоризм об истине, которая рождается будто бы в споре, не может хорошо их сдружить, потому что в споре, как в любом соревновании, не исключая судебного, сторонам каждый раз твердо обещаны только победа, поражение или «ничья», а истина – лишь иногда, попутно, и если повезет.
Среди сравнительно новых правообразований в правосудии оформилась техника «балансирования» между конкурирующими ценностями со «взвешиванием» интересов и выяснением пропорциональности . В ней, конституционные, в частности, суды, начиная с немецкого 129решают ради наибольшей объективности, чем и насколько оправданы законодательные ограничения фундаментальных свобод, хороша и верна ли пропорция между правовыми «выгодами» и потерями. Законодательной же власти полагается в этом измерении решать, можно ли ради благочиния и бестревожного самочувствия одной части граждан запретить другой их части, например, собираться и высказываться по беспокойным поводам в обстоятельствах неподходящего места и неудобного времени? Изъять и ограничить ли чье-нибудь законное владение, чтобы исполнились ценные интересы других лиц, политической или муниципальной общности? Когда «вычисляют» балансы между интересами и ценностями, из них что-то предпочтут, а другое оценят пониже, но попробуют сделать ограничение не чрезмерным и «пропорциональным», а в пропорцию между собою и встанут интересы и ценности, чтобы взять преимущество или друг другу уступить.
Между тем ценность или интерес устроены субъективно и потому отстоят от закона, если чувствовать его в образе объективного руководства. Они живут лишь в составе отношения, где кто-нибудь, сколько-нибудь и чем-нибудь дорожит. Не бывает ценностей, которых никто не ценит, как и нет интереса, когда в житейском, доходном, этическом, в познавательном или еще в каком-нибудь смысле предмет никому не интересен. Предпочтения, эмоции, убеждения и прочее определенно «встроены» в ценности и с интересами вместе участвуют в мотивации воли, в ее интенсивности и модальности. Между собою им не встать в столь объективные соотношения, чтобы из этого получилась проверяемая пропорция; верных им измерителей нет и с весовым эталоном или мерной шкалой их сопоставить нельзя.
Закон – тоже вполне человеческое достояние, но слишком старое, чтобы быть очень сложным. Человечество усвоило его простоватым, по-прежнему чувствуя в нем больше бинарного (двоичного), чем разновесного и протяженно-дробного, больше строгой определенности, чем благожелательного участия в людских интересах и предпочтениях. Пока в законе чувствуют господство над произволом, верят в его беспристрастие к сторонам конфликтующих интересов, люди, в общем, готовы уверенно и согласованно различать надвое законное и незаконное. В итоге даже сложные спорные случаи они расположены решать по закону в простой альтернативе: нарушено право или не нарушено, справедливо или не справедливо, доказано или не доказано, виноват или не виновен, и лишь потом к основному ответу прибавят, например, гуманную снисходительность и милосердную волю, чтобы смягчить закон и дать пощаду «слабой стороне». Уверенность, однако, слабеет, когда нужно определять в сравнении, что «законнее» или «правомернее». Сам язык делает эти выражения неестественными и сопротивляется им, противополагая друг другу «прав» и «не прав», «законно» и «не законно», «обязан» или «свободен от обязанности», чтобы о законе нельзя было говорить в степенях без искусственного усилия и насилия над смыслом.
Пропорциональность же и баланс вводят именно в то измерение, где взвешивают интересы, ценности, цели, решая приблизительно, чего они стоят, что в них условно дороже или «дешевле» и как среди них решить между «лучше» или «хуже». Такие соразмерности и степени определяют не столько законно-правовое, сколько предпочитаемое и целесообразное. При всей ритуальности процедур балансирования, в них все равно решают, есть ли в законодательном правоограничении «надлежащая цель», сколько в ней « значимости и веса », « уместна » ли она, чтобы потом «исчислить» из таких приблизительностей и «пропорцию» 130.
И в этой области происходит оппозиция между американским, прежде всего, право-верием и континентальным судейским гуманизмом, замешанным на волевой духовности с верой в гуманный долг законодательной воли. Здесь одна сторонастоит на преимуществе закона и не равняет права с прочими интересами и ценностями; отмечая закон и неотчуждаемые права ни с чем не сравнимой ценностью «высшей пробы», она не ставит их на одни весы с целями и целесообразностью, а во «взвешивании ценностей» подозревает избыточный произвол. Здесь важно решить – нарушает или нет осуществление права одного лица права, а не интересы, иных лиц или закон.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: