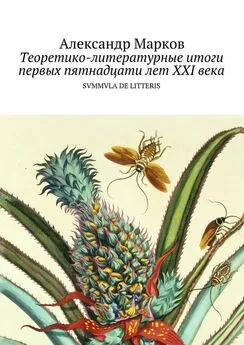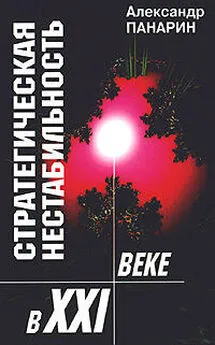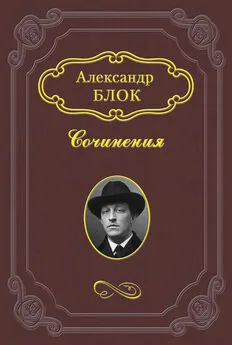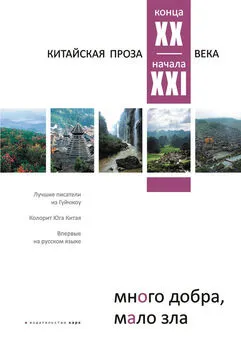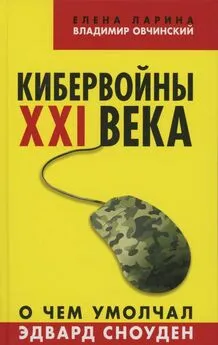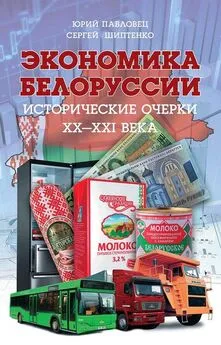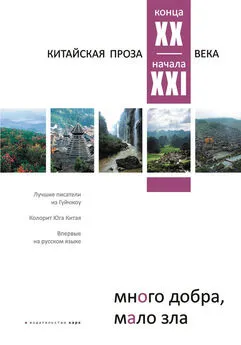Александр Марков - Теоретико-литературные итоги первых пятнадцати лет ХХI века
- Название:Теоретико-литературные итоги первых пятнадцати лет ХХI века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Ридеро»
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-4474-1760-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Марков - Теоретико-литературные итоги первых пятнадцати лет ХХI века краткое содержание
Теоретико-литературные итоги первых пятнадцати лет ХХI века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Купидоны ведут хоровод, взявшись за руки и держа при этом факелы, атрибут страсти [Daye 1998, 252], с соседних деревьев им аккомпанируют с флейтой и бубном два купидона поменьше, и наконец, алтарь, вокруг которого они ведут свой танец, увенчан композицией: два купидона поддерживают третьего с луком и стрелами. Два этих инструмента, флейта и бубен, обычны в романтической литературе, например, в образцовом готическом романе Анны Рэдклиф Итальянец (кн. 3, гл. 1) герои находят город не только по крикам на празднике, но по смешанному шуму криков и музыки, «ветер доносил звуки флейт и тамбурина». Иногда купидоны с музыкальными инструментами сидят слева на облаке, а справа на другом облаке Венера и купидон. Наконец, может не быть алтаря, тогда купидоны танцуют вокруг дерева, перед которое как перед алтарь снесено оружие. Слева на дальнем плане высокая гора, а справа – храм любви: любовь понимается как снисхождение к наслаждениям, а не как трудное восхождение. Происходит спуск вниз, а не подъем наверх, и это весьма значимо.
Игра сидя на деревьях тоже именно в романтизме стала пониматься не как действительный обычай, а как апофеоз фантастического. Такова интерпретация бурлесков Жака Калло (творчеством Жака Калло очень интересовался и А. Бертран), современника Альбани, как фантазийных, принадлежащая Э. Т. А. Гофману: у Калло «танец крестьян, где музыканты играют, сидя на деревьях, как птицы, являются в свете особого оригинального романтизма, который удивительно много говорит душе, склонной ко всему фантастическому». Получается, что склонность к фантастическому находит правильное завершение только в виде полноценного концерта, причем сыгранного музыкантами, рассевшимися «как птицы». Романтизм, оспоривший подражание природе в старом смысле, как соревнование с ней, вынужден был признавать его только как подражание пластике, как пластичность, закрепляемую смелыми словесными сравнениями.
Понятая так пластичность позволила перекинуть мост от символического ряда не вполне ясных изображений к общему представлению эпохи, что даже катастрофа совершенно недолжного насилия может хорошо закончиться (раз пластика по определению заранее наделена некоей «гармонией»).
Образ танцующих купидонов – не простая галантная фривольность: он восходит к описанию Похищения Прозерпины в Метаморфозах Овидия (V, 370–395). В некоторых версиях изображения есть и Прозерпина [Réveil 1830, 433]. У Овидия Венера жалуется, что она властна только над двумя из трех жребиев богов, над небом и землей, но не над подземным царством, и велит Амору поразить сердце Дита-Аида. Дит мигом похищает Прозерпину, собиравшую цветы и танцевавшую с подругами на лугу (танец девушек и сбор ими цветов – части одного мотива во всей античной поэзии). Тогда танец купидонов и есть исполнение этого сюжета: любовь, которая владела небом и землей, овладела и подземным царством; и сама земная твердь испытывает действие радостного танца.
Отчет Амора о выполненном плане и изображен на облаке: благодарность от Венеры, в рамках стандартных жестов отношения со слугой, комическим персонажем [McGee 1988, 238]. Прозерпина отождествлялась с созвездием Тельца, как раз того второго (по римскому счету) Месяца года, когда Венера торжествовала над Марсом (Апрель над Мартом, месяцем Марса). Такое торжество видим на знаменитых астрологических фресках в Палаццо Скифанойя, с анализа которых Аби Варбургом [Warburg 1912, 563–575] и началась вся наука о самостоятельном смысле образов – иконология. Поэтому танец купидонов можно понимать как вариант Апрельского танца, танца месяца Тельца, танца на цветущем лугу, как некоторый аналог Трех Граций на фреске Апрель . Поэтому перед нами торжество любви над войной: воинские доспехи повержены, и мир торжествует.
Все образы Бертрана обретают очевидный смысл: расстроенный инструмент, превращающий любую серьезную сцену в комедию и интермедию, ожидает перемены времен; такой перемены, чтобы музыка стала не потусторонней, а вновь земной. Перемена времен сопровождается насилием, торжеством Марса. Тогда как именно кража Персефоны-Коломбины, в пародийном ключе, и делает сцену не бессмысленной, а вполне осмысленной: торжествует Апрель любви, и интермедии, музыкальные антракты оказываются самым правильным исполнением музыкального замысла. Такая интерпретация позволяет уточнить степень влияния иконологических программ на схемы романтической фантазии и на романтическую концепцию музыки как одновременно самого жизненного и самого потустороннего искусства. Но само представление о схемах не просто как об «образах», но как о «программах», родилось в классицистской поэтике.
1.3. Понятие «примера» в поэтике: как примеру стало невозможно подражать
Классицизм начался с поэтик, нам важны поэтики Скалигера (1541) и Фосса (1647), Г. Г. Шпет, впрочем, называл его Воссиус, так что можно и так. У Скалигера exemplum это фигура, и цель такого «примера» – подобрать к редкой строке еще более редкое определение. Цель – не литературные, а научные редкости. Пример опережает подражание; если подражание медленно, то пример позволяет сразу понять даже самые сложные фигуры.
Слова specimen, другое Латинское название образца-образчика, у Скалигера нет, есть species – но слово означает не жанр, а способ приготовления, как сделать сюжет трагедии насыщенным или напротив, вольным. Так античная говорила о грубых и мягких стилях, или «истолкованиях», грубым или мягким было содержание и впечатление разом; только в Новое время понятие «истолкование» оказалось заменено на «импликацию». Роды оказываются частью этих «жанров» как основных стилистических выразительных принципов, самых общих впечатлений.
Фосс, связав exemplum и фортуну, противопоставил exemplum энтимеме (логическому замыслу): замысел никогда не научится считаться с фортуной. Один и тот же еxemplum может быть представлен в произведениях разного стиля, служа примером «прозы вообще» или поэзии «вообще». В античной риторике поэзия подражает прозе или проза поэзии, и в этом неожиданном подражании создаются новые произведения как образчики новых жанров; а описательный характер литературы позволяет свободно выбирать тему. В раннее Новое время, стремящееся к созданию канона произведений, нужно было остановить расходящиеся круги взаимных подражаний, ради однозначной репрезентации.
Слово specimen у Фосса теперь якобы переводит слово δεῖγμα, музыкальная закономерность, или как мы привыкли говорить «мотив», «лейтмотив». Если борьба ( агон ) – это концерт, на который каждый приходит со своей мелодией, то только следуя мотиву в тиши кабинета, не соревнуясь в качестве подражания, можно создать образцовые произведения. Древние следовали музыкальным мотивам при создании трагедий и комедий, а мы последуем для создания шедевров тем мотивам, которые дает нам уже последовавшая большим мотивам литература.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: