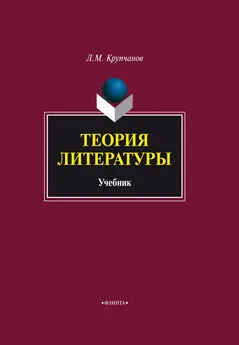Леонид Крупчанов - Н. В. Гоголь и Россия. Два века легенды
- Название:Н. В. Гоголь и Россия. Два века легенды
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Прометей
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4263-0006-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Крупчанов - Н. В. Гоголь и Россия. Два века легенды краткое содержание
Н. В. Гоголь и Россия. Два века легенды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В письме М. С. Щепкину в августе 1840 г. Гоголь уточняет, какую шляпу должен надеть один из героев рекомендуемой им к постановке итальянской комедии: «В шляпе трехугольной, – пишет Гоголь, – не как носят у нас, что называют вареником, а в той, в какой нарисован блудный сын, пасущий стада, то есть с пригнутыми немного полями на три стороны». Этот образ распространенной в то время картины использовал и Пушкин в повести «Станционный смотритель», где изображен юноша-свинопас «в рубище и в треугольной шляпе». Можно сказать, до последних дней Гоголь сохранял в своей памяти образ Пушкина. Буквально за несколько месяцев до смерти (в письме М. П. Погодину в сентябре 1851 г.) он просит Погодина переслать П. В. Анненкову, работавшему над биографией Пушкина, имеющиеся у него материалы. «По мере сил удовлетвори», – просит он Погодина.
2. Литературные традиции А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя
а. Древнегреческая и древнеримская литература в оценке А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя
Пушкин в Лицее, как и Гоголь в Нежинской гимназии, основательно изучали классику. Образы и мифы древнегреческой и древнеримской литературы Пушкин постоянно использовал в своем творчестве, в письмах. В письме лицейского пери ода в декабре 1816 года к дяде, известному поэту В. Л. Пушкину, он сравнивает его поэзию
«…с гневной музой Ювенала
Глухого варварства начала…»
Молодой Пушкин прекрасно чувствовал стиль и сам дух классической поэзии. В письме к брату Л. С. Пушкину, уже после лицея, в сентябре 1822 года, он критикует Кюхельбекера, который, по словам Пушкина, решил «воспевать Грецию, великолепную, классическую Грецию, Грецию, где всё дышит мифологией и героизмом, славянорусскими стихами, целиком взятыми из Иеремии». «Что бы сказали Гомер и Пиндар?» – добавляет он. У Пушкина свои критерии оценки творчества классиков. «У римлян, – пишет он А. А. Бестужеву в 1825 году, – век посредственности предшествовал веку гениев, – грех отнять это титло у таковых людей, каковы Виргилий, Гораций, Тибулл, хотя они, кроме двух последних, шли столбовою дорогою подражания. Критики греческой мы не имеем». Из числа подражателей Пушкин исключает только Горация. Пушкин с нетерпением ожидал выхода в свет «Илиады» Гомера в переводе Н. И. Гнедича, а появление перевода в январе 1830 года встретил краткой заметкой в «Литературной газете». Он противопоставляет «Илиаду» и ее перевод как «образец величавой «древности», модным «блестящим безделкам» современных писателей и называет труд переводчика бескорыстным, вдохновенным «подви гом», которому посвящены многие, «лучшие годы жизни». В «Объяснении…», опубликованном через месяц, Пушкин защищает Гнедича и редактора «Литературной газеты» Дельвига от нападок С. Раича, увидевшего в одобритель ной заметке Пушкина признак «партийной» солидарности. Пушкин отмечает, что, с его точки зрения, значение имеют только чисто литературные оценки. Ссылаясь на незнание греческого языка, Пушкин собирается дать отзыв о переводе Гнедича позднее. В стихах Гнедича, в которых Пушкин отмечал удачные строки, в то же время было, по его замечанию, что-то «жесткое». На это Пушкин указывал в стихотворном послании начала 1820-х годов («На Гнедича»). К переводу же Гнедича он относился одобрительно, указывая, что Гнедич «… воскресил Ахилла призрак величавый Гомера музу нам явил.» («Из письма к Гнедичу»)
В конце 1820-х годов в печати появились отрывки из перевода «Илиады» Жуковским, а в конце 1840-х годов он переводит «Одиссею» Гомера. В этом соревновании переводчиков Гомера Гнедича и Жуковского Пушкин скорее всего на стороне Жуковского. Но еще в 1832-м году, то есть спустя два года после выхода «Илиады» в переводе Гнедича, он пишет стихи «На перевод «Илиады», используя уже собственные силы в гекзаметре: «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи, Старца великого тень чую смущенной душой».
Видимо, окончательной оценкой перевода Гнедича следует считать неопубли кованную эпиграмму-миниатюру «К переводу «Илиады» (в этом жанре Пушкин был беспощаден к друзьям):
«Крив был Гнедич-поэт, преложитель слепого Гомера, Боком одним с образцом схож и его перевод».
Здесь можно уловить печать балагурства, характерного для дружеских эпиграмм Пушкина.
Можно отметить три этапа в изучении Гоголем древнегреческой и древнеримской литературы. Гимназический период – по программам Нежинской гимназии; второй этап – середина 1830-х годов (1835–1837), связанный с коренным изменением литературных интересов Гоголя: он начинает работу над «Мертвыми душами», учится у мастеров, особенно у Гомера, и выезжает за границу; третий период – 1844–1845 года, когда он работает над «Учебной книгой словесности русского юношества» и «Выбранными местами…» Этот интерес легко установить, основываясь на его переписке. В «Выбранных местах…», сравнивая русскую комедию с древнегреческой, в частности комедии Фонвизина и Грибоедова с комедиями Аристофана, Гоголь отмечает, что Аристофан высмеивал отдельную личность с ее пороками, стараясь утвердить истину в добре, тогда как русские комики выступали против пороков всего общества, продолжая борьбу света с тьмой, начатую Петром I. Поэтому русские комедии не столько художественные создания, сколько реальные средства «очищения» страны от «сору и дрязгу». В «Учебной книге словесности для русского юношества» Гоголь рассматривает проблемы жанровой специфики древнегреческой поэзии, в частности эклоги. Он указывает, что эклоги Виргилия лишь по внешней форме сельские стихи. На самом же деле эти эклоги представляют собой восхваления, по словам Гоголя, «приемлют вид од, гимнов, ничуть не уступая по возвышенности одам Горация». Эклогой он считает «состязание Гомера с Гезиодом» в вольном переводе Батюшкова элегии Мильвуа «Combat d’Homere et d’Hesiode» (У Батюшкова – «Гезиод и Омир – соперники»). В дальнейшем имя Гомера приобретает у Гоголя символику святости. В 1847 году в письме к П. В. Анненкову он пишет: «Проведя долгое время за Библией, за Моисеем, Гомером – законодателями веков минувших, читая историю событий, кончившихся и отживших, наконец наблюдая и анатомируя собственную душу… я… стал на время чужд всему современному… проснулось во мне любопытство ребенка». С «Илиадой» Гомера связывает Гоголь вопрос об отношении Пушкина к идее монархии, утверждая в «Выбранных местах…», что «только по смерти Пушкина обнаружились его истинные отношения к государю и тайны двух его лучших сочинений». Гоголь пересказывает историю о бале в Аничковом дворце, на который Николай I опоздал, якобы увлекшись чтением «Илиады». Только Пушкин, с его поэтическим чутьем, заметил причину этого опоздания императора и написал по этому поводу оду «К Н***»:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: