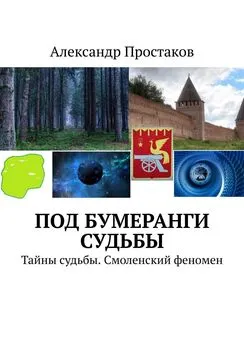Нина Корчагина - Михаил Лермонтов: тайны судьбы и творчества
- Название:Михаил Лермонтов: тайны судьбы и творчества
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ИП Астапов
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9905616-9-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Корчагина - Михаил Лермонтов: тайны судьбы и творчества краткое содержание
Книга Н. Корчагиной написана в форме эссе с лирическими отступлениями автора и элементами «детективного сюжета» на основании писем и воспоминаний современников, творчества поэта и работ лермонтоведов, в том числе и современных.
Михаил Лермонтов: тайны судьбы и творчества - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Для того и путают следствие, а потом и нас, чтобы не возник вопрос: как Лермонтов мог оказаться в Пятигорске 15 июля в 6 часов 30 минут, если после вызова на дуэль, а это известный факт, он уехал в Железноводск, сознавая накаляющуюся вокруг него обстановку? Купил билеты для принятия минеральных ванн на несколько дней вперед. Из Пятигорска была перевезена часть его вещей. В тот роковой день, направляясь к подножию Машука, в трактире мадам Рошке, что находился в поселке Шотланка, поэт остановился пообедать в окружении друзей, приехавших к нему еще утром из Пятигорска. Последний свидетель видел его там примерно за час до смерти. Мы говорим: направляясь к подножию Машука потому, что там его убили. На самом деле мы не знаем, куда он поехал…
О том, что Лермонтова 15 июля не было в Пятигорске, свидетельствуют и воспоминания Полеводина: «Лермонтов обедал в этот день с ним (Львом Сергеевичем Пушкиным) и прочею молодежью в Шотланке (в шести верстах от Пятигорска) и не сказал ни слова о дуэли, которая должна была состояться через час», – и Кати Быховец, которая провела с поэтом целый день и простилась с ним за два часа до его гибели.
У В. А. Захарова в «Летописи жизни и творчества М. Ю. Лермонтова» написано, что поэт поехал на дуэль из Железноводска. Если он ехал один, что, скорее всего, так и было, тогда понятна путаница в показаниях секундантов относительно поэта. Но они не могут договориться и между собой. Казалось бы, такой невинный вопрос: кто с кем ехал? При условии, если на самом деле ехал. А если нет? И нельзя сказать правду? Удивительно, как эти вопросы не пришли в голову следователям.
Из ответов участников дуэли и следствию, и окружному суду не ясно, кто подавал команды во время дуэли и вообще – сколько было секундантов?
С количеством секундантов участники дуэли тоже всех запутали. Сначала один Глебов, потом объявился Васильчиков, потом оказалось, что командовали на дуэли то А. А. Столыпин, то С. В. Трубецкой…
В своем дневнике М. А. Корф пишет, «что дуэль происходила при одном Глебове, Васильчиков же не был секундантом, а лишь впоследствии добровольно выдал себя за секунданта, чтобы дуэль, как происходившая при одном секунданте, не была вменена Мартынову в простое смертоубийство».
Об этом же узнаем из черновика первого рапорта пятигорского коменданта В. Ильяшенкова Командующему войсками на Кавказской линии и в Черномории генерал-адъютанту П. Х. Граббе, написанного 16 июля – на следующий день после дуэли: «Секундантом у обоих был находящийся здесь для излечения раны лейб-гвардии конного полка корнет Глебов». В таком варианте документ послан не был, так как к полковнику явился князь Васильчиков и сообщил о своем участии в роли секунданта на дуэли.
А вот как об этом вспоминал А. И. Арнольди: «Рассказывали в Пятигорске, что заранее было установлено, чтобы только один из секундантов пал жертвою правительственного закона, что поэтому секунданты между собой кидали жребий, и тот выпал на долю Глебова, который в тот же вечер доложил коменданту о дуэли и был посажен на гауптвахту. Так как Глебов жил с Мартыновым на одной квартире, правильная по законам чести дуэль могла казаться простым убийством, и вот, для обеления Глебова, А. Васильчиков на другой день сообщил коменданту, что он был также секундантом Лермонтова, за что посажен был в острог…»
И после признания Васильчикова комендант В. Ильяшенков не знал, как указать, кто с чьей стороны был секундантом. К такому выводу пришла Э. Герштейн, исследовавшая окончательный вид второй части рапорта и впервые опубликовавшая этот документ.
Принято считать, что секундантов было четверо, но участие в поединке князя Трубецкого и близкого друга поэта и родственника А. Столыпина-Монго от суда утаили, так как они, как и поэт, были в опале у Николая I.
После убийства поговаривали, что, кроме четырех известных секундантов, на месте поединка было еще несколько лиц в качестве зрителей, спрятавшихся за кустами – между ними и Дорохов, участвовавший в 14 поединках! Будто бы он и был «автором» жестоких условий поединка. О том, что «при последнем поединке Лермонтова присутствовали не одни секунданты, а были еще некоторые лица, стоявшие в отдалении» читаем и в воспоминаниях Лонгинова.
И снова вырисовывается какая-то расплывчатая картина… Дуэль состоялась не сразу после вызова, секунданты говорили, что пытались ее предотвратить. И что же, боевые офицеры (все, кроме Васильчикова) не знали, что у каждого поединщика должен быть секундант? Существовал свод правил для проведения дуэли, который необходимо было соблюдать безукоризненно. А здесь один «просто зарядил пистолет», другой просто выкрикнул. И не зря была молва о жребии, выпавшем на Глебова. Жребий можно было метать и совсем при других обстоятельствах.
Как бы там ни было, но прежде чем расстаться, все пять участников дуэли дали, как утверждал впоследствии Васильчиков, «друг другу слово молчать и не говорить никому ничего другого, кроме того, что…показано на формальном следствии».
Что стоят после такого признания материалы следствия? Хотя, опираясь на них, исследователи решили выяснить, что же хотели утаить обвиняемые от суда.
Секунданты и убийца не только путались в показаниях, но и умалчивали невыгодные для них факты. Так, они скрыли от следствия и смертельные условия дуэли: право каждого на три выстрела с вызовом отстрелявшегося к барьеру и что расстояние между барьерами было не 15 шагов, а десять – противникам бы пришлось стрелять друг друга практически в упор, если бы Столыпин и не перемерил своими огромными шагами расстояние между барьерами.
С момента гибли поэта прошло свыше полутора веков, но причины и обстоятельства его ссоры с Мартыновым и по сей день остаются неясными. Роковое объяснение случилось без свидетелей, и не верится россказням Мартынова о том, что поводом для кровавой ссоры послужили насмешки и эпиграммы. Все попытки исследователей проникнуть в тайны дуэли упираются в недостаток достоверных сведений и неопровержимых доказательств. В «дуэльном деле» накопилось множество материалов и документов, весьма далеких от исторической истины. Большинство из них составлено по воспоминаниям, письмам и устным рассказам современников, не бывших ни участниками, ни свидетелями пятигорской трагедии, спустя много десятков лет.
Попробуем по материалам следственного дела посмотреть, как складывался так долго живущий миф о вине поэта.
Разве справедливо, что главный и единственный источник информации в деле о ссоре, послужившей причиной дуэли, – Мартынов, приятель и убийца поэта? Вот как он отвечает на 6-й вопрос следствия: «Какая причина была поводом к этой дуэли; не происходило ли между вами и покойным Лермонтовым ссоры или вражды, с какого времени оная возникла?» – «С самого приезда своего в Пятигорск Лермонтов не пропускал ни одного случая, где бы он мог сказать мне что-нибудь неприятное. Остроты, колкости, насмешки на мой счет, одним словом, все, чем только можно досадить человеку, не касаясь до его чести. Я показывал ему, как умел, что не намерен служить мишенью для его ума, но он делал, как будто не замечает, как я принимаю его шутки. Недели три назад во время его болезни, я говорил с ним об этом откровенно; просил его перестать, и хотя он не обещал мне ничего, отшучиваясь и предлагая мне, в свою очередь, смеяться над ним, но действительно перестал на несколько дней. Потом взялся опять за прежнее. На вечере в одном частном доме за два дня до дуэли он вывел меня из терпения, привязываясь к каждому моему слову, на каждом шагу показывая явное желание мне досадить. Я решился положить этому конец. При выходе из дома я удержал его за руку, чтобы он пошел рядом со мной; остальные все уже были впереди. Тут я сказал ему, что я прежде просил его прекратить эти несносные для меня шутки, но что теперь предупреждаю, что если он еще раз вздумает выбрать меня предметом для своей остроты, то я заставлю его перестать. Он не давал мне кончить и повторял раз сряду: что ему тон моей проповеди не нравится, что я не могу запретить ему говорить про меня то, что он хочет, и в довершенье сказал мне: „Вместо пустых угроз ты гораздо бы лучше сделал, если бы действовал. Ты знаешь, что я от дуэлей никогда не отказываюсь, следовательно, ты никого этим не испугаешь“. В это время мы подошли к его дому. Я сказал ему, что в таком случае пришлю к нему своего секунданта…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



![Михаил Давидов - Тайны гибели российских поэтов: Пушкин, Лермонтов, Маяковский [Документальные повести, статьи, исследования]](/books/1071372/mihail-davidov-tajny-gibeli-rossijskih-poetov-push.webp)