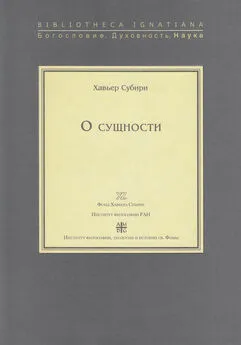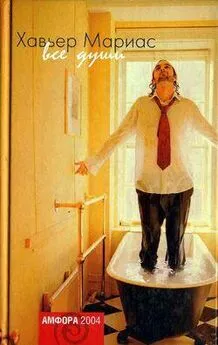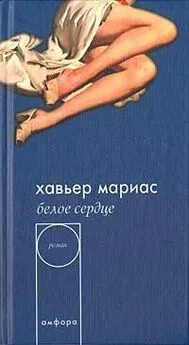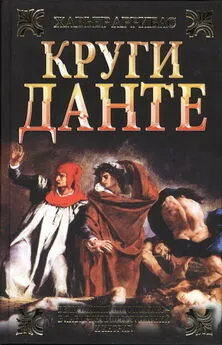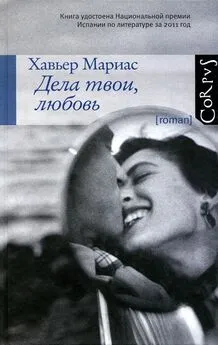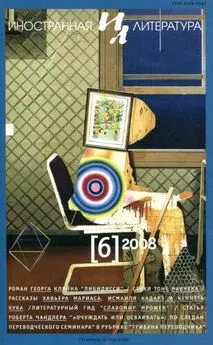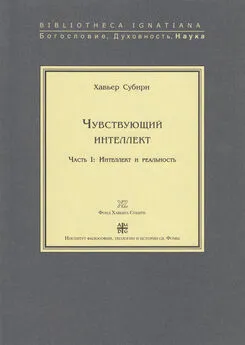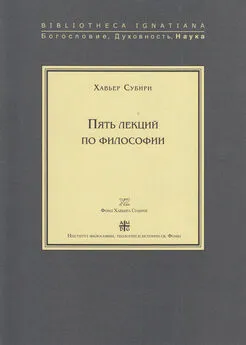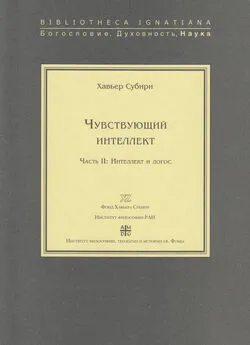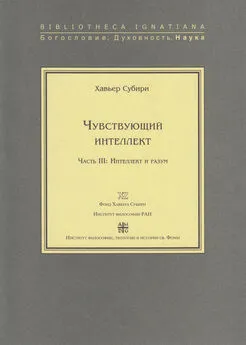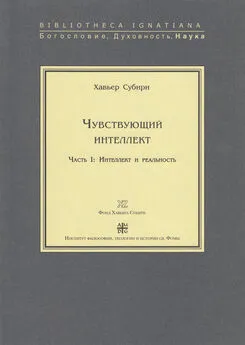Хавьер Субири - О сущности
- Название:О сущности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Св. Фомы»
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-94242-042-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Хавьер Субири - О сущности краткое содержание
Книга опубликована при финансовой поддержке Главного управления по делам книгоиздания, архивов и библиотек Министерства культуры Испании.
О сущности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Глава пятая
Сущность как реальный коррелят определения
Итак, ни формальное понятие, ни объективное понятие не приводят нас к удовлетворительной идее сущности. Но это выражение, «сущность есть реальность понятия вещи», может указывать еще и в третьем направлении: реальность вещи – это не концептуальная реальность (ни формальная, ни объективная), а сама вещь как коррелят ее понятия. Другими словами, реальность того, понятием чего является понятие, есть помысленная реальность не qua помысленная, а qua реальная. В таком случае определение сущности опирается не на истину понятия, а на реальность. Понятие будет всего лишь органом, посредством которого мы схватываем, что́ есть вещь в ее сущности; а сама сущность будет тем, что́ в вещи, как ее реальный момент, соответствует понятию. Такова точка зрения Аристотеля. Но то, что мы здесь называем понятием, Аристотель скорее называет определением. И причина этого очевидна: ведь сущность есть «что́», есть τί чего-либо, а ответ на вопрос о том, что́ есть нечто, – это для Аристотеля и есть определение.
Поставив вопрос о сущности таким образом, Аристотель начинает с того, что приближается к реальной вещи по пути определения, чтобы вслед за тем сказать, что́ есть сущность как реальный момент вещи (τὸ τί ἦν εἶναι).
Во-первых, о пути определения. Речь идет не о логике, а о том, чтобы узнать, какой должна быть реальная вещь, чтобы относительно нее имелось определение. Аристотель называет это «продвигаться λογιϰῶς [логически]». Логос, именуемый определением, составлен из предикатов, которым соответствуют меты вещи. Из этих мет одни предицируются логосом их субъекту в силу того, что́ этот субъект есть сам по себе (ϰαθ’ αὐτό), тогда как другие предицируются вещи, но являются для нее привходящими (ϰατὰ συμβεβηϰός). Так, мета «живое существо» подобает Сократу в силу того, что́ он есть сам по себе, а именно, человек; но не так обстоит дело с «музыкантом», потому что быть музыкантом для него – привходящее свойство. Предикаты любого определения принадлежат к первому типу. Но не все предикаты определения составляют часть сущности вещи. Сущность вещи высказывают лишь те определения, в которых предикат не является «свойством» субъекта и в которых, следовательно, субъект формально не входит в сам предикат определения. Если я хочу дать определение белой поверхности, то «белизна» будет метой, которая «сама по себе» требует субъекта-поверхности; но она требует его потому, что просто является его свойством, так что этот субъект формально отличен от белизны. В силу этого в определении белой поверхности необходимо ввести в предикат, в той или иной форме, слово и понятие «поверхность». Так вот, сущность вещи выражают только те определения, в которых предикат подобает субъекту «сам по себе», без того, чтобы этот субъект формально входил в сам предикат, то есть без того, чтобы определяемое входило в определение.
Если исходить из этого, каковы те сущие, в которых это имеет место? Другими словами, каковы те сущие, относительно которых имеется определение в только что представленном строгом смысле? Разумеется, ничто из того, что мы сегодня называем «идеальной вещью», не было для Аристотеля сущим в собственном смысле (я оставляю в стороне темную проблему того, чем были для него «математические сущие»). Но даже и среди реальных вещей сущие имеют самый разный сущностный характер. В первом приближении, строгой существенностью обладают только «природные» вещи. Итак, здесь Аристотель встает на другой путь – путь природы, φύσις, путь возникновения и уничтожения. Только природные сущие (φύσει ὄντα) заслуживают того, чтобы называться сущими и, следовательно, только они обладают сущностью. Очевидно, что Аристотель признает наличие сущих, обособленных от природы: в самом деле, небесные тела и бог, θεός, не подвержены возникновению и уничтожению. Но с точки зрения нашей проблемы они не отличаются от природных сущих, поскольку наряду с ними противополагаются «искусственным» сущим, а это – единственный пункт, который нас здесь интересует. Стало быть, мы можем без ущерба для общего характера проблемы ограничиться тем, чтобы говорить обо всем не-искусственном как о природном. Для Аристотеля искусственные сущие (τέχνῃ ὄντα), строго говоря, не являются сущими и в собственном смысле не обладают сущностью. Кровать из каштанового дерева, строго говоря, не есть сущее. Это подтверждается тем, что, если бы я посадил ее в землю и мог заставить прорасти, то выросли бы не кровати, а каштановые деревья. Сущее – это каштановое дерево, а не кровать. Для греков искусство, τέχνη, то, что мы неудачно называем техникой, есть нечто низшее в сравнении с природой. В любом случае техника греков делает не то, что делает природа, а то, чего природа не делает; она в лучшем случае помогает природе в ее делании. Истинно сущим характером обладает природа. Поэтому только у природных сущих есть сущность.
В свою очередь, природные сущие обладают самым разным характером. Есть такие, которые являются не столько сущими, сколько сущими сущих, аффекциями других сущих. В самом деле, они сказываются о других сущих, обладая реальностью, которая не отделена от этих других сущих, но лишь соотносится с ними и аналогична им. Таковы привходящие свойства, акциденции. В отличие от акциденции, субстанция (οὐσία) – это предельный субъект любой предикации: она не предицируется ничему другому и не существует в другом. Стало быть, только субстанции обладают истинным «что», τί. В силу этого они существуют в самих себе, как нечто отдельное (χωριστόν) от любого другого сущего. Только относительно них имеется определение в строгом смысле; акциденции определяются лишь по аналогии. Ибо только о субстанции, как о предельном субъекте предикации, могут сказываться меты в силу того, что́ она есть сама по себе, без того, чтобы определяемое входило в определение. Таким образом, любое определение есть λόγος οὐσίας, логос субстанции. Предложения в форме определения могут составляться относительно чего угодно, но определение имеется лишь о субстанции. Поэтому только субстанции обладают сущностью.
Тогда что такое сущность как реальный момент субстанции? Прежде всего, сущность не тождественна субстанции, но есть именно нечто «принадлежащее» субстанции, а потому могущее сказываться о ней: Сократ есть человек, и т. д. Различие между Сократом и человеком – не чисто логическое, но реальное. В самом деле, помимо человеческих мет, которые сущностно присущи Сократу, он обладает и многими другими, не-сущностными метами. Следовательно, Сократ есть полное и целое сущее, тогда как сущность составляет лишь его часть. В силу этого, когда мы говорим, что Сократ есть человек, предикат реально отличен субъекта, как часть от целого. Стало быть, чтобы узнать, что́ позитивно представляет собою сущность, нам достаточно услышать от Аристотеля, что такое не-сущностные меты, то есть другая «часть» целого сущего, каковым является Сократ. Эти не-сущностные меты, говорит Аристотель, бывают двоякого рода. Одни суть меты, о которых мы говорили выше: акцидентальные меты, которые привходят к Сократу, то есть акциденции субстанции. Но есть и другие меты, которые привходят не к Сократу, а лишь к его сущности. Что это за меты? Вот вопрос.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: