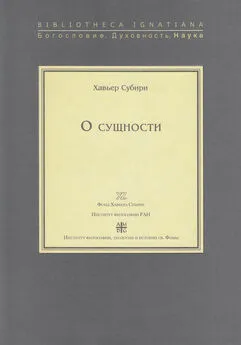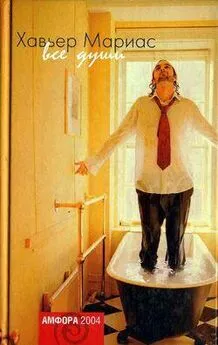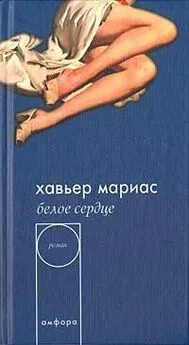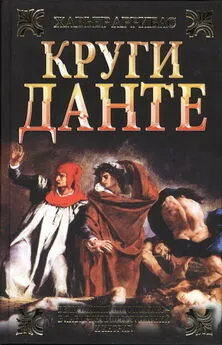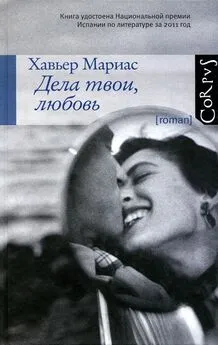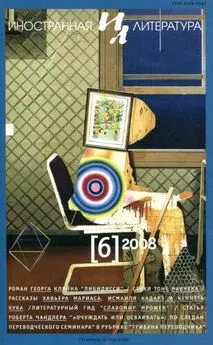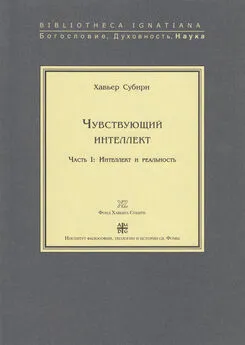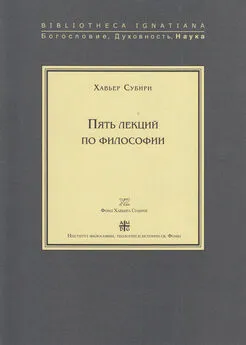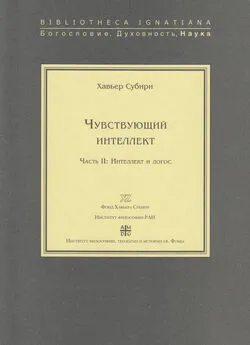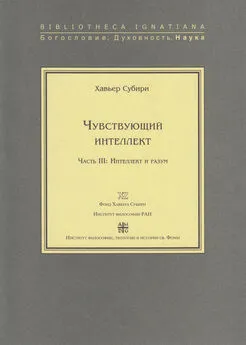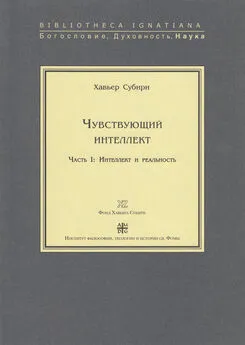Хавьер Субири - О сущности
- Название:О сущности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Св. Фомы»
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-94242-042-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Хавьер Субири - О сущности краткое содержание
Книга опубликована при финансовой поддержке Главного управления по делам книгоиздания, архивов и библиотек Министерства культуры Испании.
О сущности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Резюмируя, скажем: сущность – это специфическое, взять ли ее как физический момент или как определяемую реальность.
Но такое понятие сущности, как минимум, страдает мутной двусмысленностью. Дело в том, что к этому вопросу, как почти ко всем проблемам своей первой философии, Аристотель подходит двумя путями: путем предикации (λόγος) и путем природы (φύσις). Это правда, что в некоторых случаях создается впечатление, будто он идет лишь одним путем; но это не так: речь идет лишь о преобладании одного пути над другим. Фактически оба пути присутствуют всегда. А поскольку они радикально отличны и независимы друг от друга, оказывается, что им очень сложно привести к единому понятию искомого. В основе нашей проблемы лежит явное преобладание λόγος᾿а над φύσις’ом, предикации над природой. Более того, само обращение к φύσις᾿у проводится ради полемики с Платоном, который был великим теоретиком «логоса сущего» (λόγος τοῡ ὄντος): тем, кто поставил проблему эйдоса, причем поставил именно в терминах λόγος᾿а. Поэтому Аристотель робко сообщает нам, что хочет начать путь «сообразно логосу» (λογιϰῶς). Ибо хотя он в действительности и хочет на пути φύσις᾿а определить, что такое сущность, при попытке позитивно ухватить, что же такое сущность некоторой природной вещи, он просто приписывает ей, поскольку она «природна», те характеристики, которые принадлежат ей исключительно как λεγόμενον, то есть как термину предикации, как объекту λόγος᾿а. А это вносит мутность в понятие сущности.
Чтобы облегчить обсуждение и затем сориентировать наш поиск, заранее скажем, что проблему сущности нужно развернуть в три последовательных шага:
1) разметить область вещей, которые я назвал бы «способными иметь сущность»;
2) указать внутри этой области, каковы те вещи, которые обладают сущностью: вещи, «имеющие сущность»;
3) определить, в чем формально состоит «сущность» этих вещей.
В такой постановке вопроса становится очевидным, что для Аристотеля область способного иметь сущность – это «природа»; сущее, «имеющее сущность», – это природная «субстанция»; а сама сущность – это «видовая определенность». Так вот, ни в одном из этих трех пунктов концепция Аристотеля не удовлетворительна.
Во-первых, что касается области способного иметь сущность, то есть области природы. Аристотель размечает ее в противопоставлении искусству, τέχνη. Но в таком противопоставлении кроется грубое смешение, губительное для аристотелевской попытки в этом пункте. В самом деле, природа и τέχνη суть, с одной стороны, два начала вещей, и в этом смысле они противостоят друг другу и исключают друг друга в той форме, в какой нам это представляет Аристотель. Действительно, любое сущее возникает из некоего начала и реализует, так сказать, «замысел» (sit venia verbo [если можно так выразиться]) этого начала. В τέχνη такое начало внеположно вещам: оно заключается в воображении или в умопостижении человека. В природе, напротив, начало является внутренним для вещей. Поэтому в первом случае мы говорим о «производстве» вещей, тогда как во втором случае мы говорим об их «возникновении» (то, что изначально обозначалось словом φύειν). Это в самом деле так. Но подразумевает ли эта адекватная двойственность начал также адекватную двойственность в существенности сущих, восходящих к этим началам? Вот единственный и решающий для нашей проблемы вопрос. И по здравом размышлении на него следует без колебаний ответить отрицательно.
Быть может, греческая техника, и вообще вся античная техника, могла осуществлять только «арте-факты», то есть вещи, которые не производятся природой и которые, будучи однажды произведенными, не обладают «природной активностью». В таком случае двойственность начал ведет к двойственности существенностей; в этом смысле показателен пример с кроватью из каштанового дерева. Но в нашем мире дело обстоит не так. Наша техника производит не только «арте-факты», то есть вещи, которых не производит природа, но и те же самые вещи, которые производятся природой и наделены той же самой природной активностью.
В этой то-же-самости заключается решающий момент. Нашу технику отделяет от греческой целая пропасть: это не только различие в степени, но и фундаментальное различие неизмеримой философской значимости. Подтверждение тому – современное химическое производство. В этом измерении наша техника приобрела чудовищные масштабы и находится на пороге достижения результатов, ранее казавшихся невозможными. Она производит не только то, что называлось составными телами, но также элементы и даже элементарные частицы, тождественные составным телам, элементам и элементарным частицам, которые порождаются природой. Она синтезирует молекулы, сущностно необходимые для структур живых существ. Она чудесным образом вторгается во все более широкие области живого и заставляет предполагать, что недалек тот день, когда она сможет синтезировать тот или иной тип живой материи. В этих условиях различие между артефактами и природными сущими исчезает: наша техника искусственным путем производит природные сущие (в данном случае неважно, что эта способность к искусственному производству природных сущих весьма ограничена). Такова идея новой техники. Для грека эта фраза представляла бы собой абсолютно неприемлемый парадокс. Поэтому двойственность φύσις (природы) и τέχνη, действительная в порядке начал, перестает действовать в порядке обусловленных началами сущих. Природа и τέχνη суть в некоторых случаях лишь два возможных пути возникновения одних и тех же сущих. Смешение этих двух вещей было глубоким заблуждением Аристотеля в этом пункте. Вместе с устранением этого заблуждения оказывается лишенной силы также попытка отграничить посредством противопоставления природы и τέχνη область реальностей, способных иметь сущность.
Внутри этой области – как мы видим, плохо определенной – только субстанция, говорит нам Аристотель, есть истинно сущее. Но в чем заключается это первенство бытийного ранга субстанции? Вот вопрос, причем вопрос, разумеется, не столь простой, как могло бы показаться. Аристотель обосновывает этот ранг, ссылаясь на то, что он называет строем категорий, где субстанция противополагается акциденции, для которой служит субстратом.
Только с этой точки зрения можно говорить о субстанции как о ὑποϰείμενον, sub-stans [под-лежащем, субъекте]. Для Аристотеля собственный характер субстанции, ее формальная сущность и ее метафизическая прерогатива заключаются в ее нередуцируемой субъектности. К этому представлению Аристотель приходит двумя путями: путем предикации и путем природы; субстанция есть последний субъект предикации, тогда как привходящие свойства суть всего лишь аффекции субстанции. Конечно, нам говорят, что субстанция – это последняя «отделимая» реальность. Но для Аристотеля отделимость – это всего лишь следствие субъектности: субстанция отделима именно потому, что она есть последний субъект, причем субъект, определенный неким τί [что́]. Идеи Платона не являются отделимыми реальностями, потому что они предицируются индивидуальным субъектам; а первоматерия неотделима потому, что, несмотря на свою субъектность, сама по себе не определена, лишена какого-либо τί. Истинно сущее обладает этой характеристикой в силу радикальной и определенной субъектности, в которой оно и состоит. Конечно, существует особая субстанция – θεός, чистая форма. Но, помимо того, что она не играет никакой роли в аристотелевской теории субстанции, сам Аристотель понимает своего бога, θεός᾿а несколько на манер субъекта самого себя. По сути, именно это означает его само-мышление: нечто весьма отличное от того, чем будет, например, рефлективность в средневековой философии и в философии Нового времени. Схоластика по-прежнему видела в субстанции сущее по преимуществу, но в целом она утверждала, что формальная сущность субстанциальности – не субъектность, а само-по-себе. Ниже мы увидим, как следует понимать эту идею самого-по-себе; пока же ограничимся Аристотелем. А для Аристотеля субстанция, то есть истинно сущее, какова бы ни была его формальная сущность (да и задавался ли Аристотель этим вопросом?), обладает формально субъектным характером. Так вот, эта концепция не оправдана ни на пути λόγος᾿а ни на пути φύσις᾿а.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: