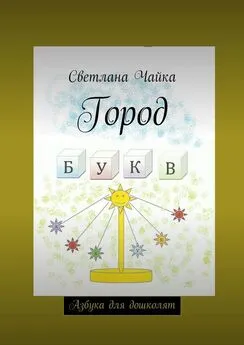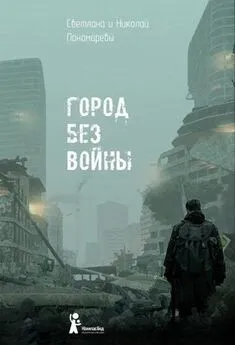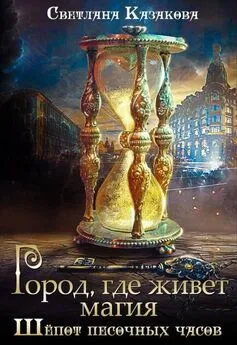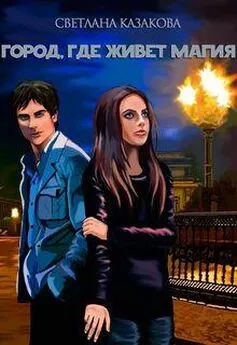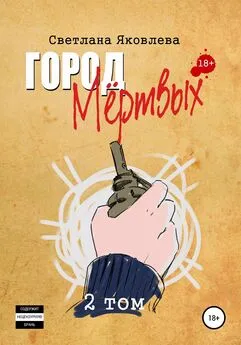Светлана Веселова - Город. Между архитектурным проектом и информационной сетью
- Название:Город. Между архитектурным проектом и информационной сетью
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Ридеро»
- Год:неизвестен
- ISBN:9785447417444
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Светлана Веселова - Город. Между архитектурным проектом и информационной сетью краткое содержание
Город. Между архитектурным проектом и информационной сетью - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Концепт города – военного лагеря появляется в Римской империи. Латинский термин civitas, по свидетельству Эмиля Бенвениста, не имеет ничего общего с греческим polis и обозначает совокупность, множественность, смесь. Действительно, Рим возник из смеси латинян, альбийцев, троянцев, этрусков. Рим – прежде всего, военный лагерь, готовый к нападению, захвату, а не оборонительная крепость (как полис, кремль, бург). В основе градостроительного плана Рима лежит не круг, а крест (символ гораздо более древний, чем христианство). Крест – нечто стремящееся, прежде всего, к территориальному расширению, экспансии, а не к ограничению, селекции, культивированию и удержанию своих границ. Вместо греческой традиции симметрии и замкнутого круга (порядок – космос, пропорциональность, гармония, тавтология, причины и следствия – Эдипов цикл), здесь изначально властвовала концепция линейного движения, линейного представления о существовании. Так римский крест стал предтеча креста Спасителя. Здесь мироощущение оседлого грека, хранимого сферами и концентрическими кругами – космосом, полисом, номосом – невозможно, ибо любой римлянин изначально номад без роду и племени. Изгнанный из полиса грек был обречен на блуждания как на проклятье. Детерминировать римлянина было невозможно. Ибо арматурой Рима была не столько архитектура, которая, организовывая пространство внутри города, обеспечивала терминологией, термами, очерчивающими локусы общественной жизни, сколько акви- и виадуки, канализации, дороги – коммуникационная система. Рим – это не столько соотношение мест, где протекала общественная жизнь (бани, стадионы, театры), сколько трасса. Жизнь римлянина – это жизнь, экспонированная в социуме. Она существует постольку, поскольку ее видят, слышат, говорят о ней, поскольку она производит эффекты восхищения, испуга, отвращения. Это чисто римское искусство экспонирования поверхностных эффектов. Именно поэтому кризис римской формы существования породит дискурс, обращенный к сфере частного, к внутреннему миру человека. Именно в умирающей Римской империи зародился христианский тип самосознания. Этические сочинения стоиков стали прообразом христианской проповеди. Нельзя сказать, чтобы в Древней Греции сочинения этического характера отсутствовали. Однако, и рассуждения Аристотеля в «Никомаховой Этике», и рассуждения Платона в «Алквиаде I» 3 3 Интересно, что диалог «Алквиад I» представлял собой лекцию, открывавшую обучение в Платоновской академии.
не апеллируют к внутреннему миру человека, а строятся в основном на выяснении того, что же такое верный этос – нрав, обычай полиса. Совсем иного рода этические наставления дает Сенека в «Письмах к Луцилию». Предметом бесед здесь становится не всеобщее, не нрав и обычай гражданина Римской империи, а частное, внутренний мир. В Риме политическая система организации была подменена социальной. Аристотелевское определение человека как политического животного существа Сенека воссоздал в латинском эквиваленте как animal sociale. Крушением социального животного, не разрывающего круг нужд и наслаждений стало рождение христианства.
Городу мы обязаны рождением философского субъекта. Именно в схождении прямых магистралей города Нового времени, избавленного от лабиринта средневековых улиц, спланированного триумфом концепции прямой перспективы Брунеллески и Альберти и идеей равномерного и прямолинейного пространства Декарта, появляется освобожденный от традиционного уклада свободно-мыслящий индивид, субъект поступка и мировоззрения. «В городе, где обычай вытеснен общественным мнением и позитивным законом, человек вынужден жить, скорее своим умом, нежели инстинктом или подчиняясь традиции. В результате появился человек – отдельный индивид, мыслящий и действующий» 4 4 Парк Р. Город как социальная лаборатория. Социологическое обозрение Том2.No3. М 2002. С.4.
. Город прямых линий, перестроенный крупнейшими градостроительными проектами XIX века (барселонская «urbanización» Ильдефонса Серда, перепланировка Парижа бароном Османом, проект реконструкции Вены Отто Вагнера), превратиться в функциональный город буржуазии.
Согласно Адаму Смиту, в XVIII веке город олицетворяет происходящее превращение центров торговли в центры мануфактурного производства. Поскольку именно в городе происходит разделение труда, он становится центром нарождающейся промышленности. С этого момента урбанизация и индустриализация, усиливая друг друга, приведут к зарождению такого явления как мегаполис, который производит «отчуждение», и маргиналов, бездомных, беспризорников, преступников, проституток. Процессы миграции населения и необходимость введения контроля создадут такое изобретение культурной фикции идентичности как паспорт.
С точки зрения Маркса город представляет собой территориальную организацию воспроизводства труда. «Основой всякого развитого и опосредованного товарообменом разделения труда является отделение города от деревни. Всякая экономическая история общества резюмируется движением этой противоположности» 5 5 Маркс. Капитал. М.1983 С.365.
. Город становится центром, поскольку именно здесь развивается новое капиталистическое производство, пришедшее на смену феодальному производству. Превращение труда в товар стало возможно именно в городах. В городе производятся материальные блага и воспроизводится рабочая сила. Все связи человек-город объясняются у него капиталистической динамикой. В фундаментальном труде о развитии мирового капитализма Фернан Бродель 6 6 Бродель Ф. Материальная цивилизация экономика и капитализм, XV – XVIII вв.: В 3-х т. М.: Весь мир, 2007. С.2002.
показывает, что город был главным местом, где произошло разделение труда и складывание рынков. Структуры городов тормозили или способствовали этим процессам. Однако к XVI веку во Флоренции, в Венеции, Милане, Генуе, Марселе и Севилье сложился «торговый капитал», что позволило стать им местами новых форм промышленного производства. Именно новый порядок городов сформировал промышленность, успешность которой давала европейским державам власть, несоизмеримую с властью, которую можно было достигать посредством войн. Политическая и экономическая власти становятся неотделимы друг от друга.
У Макса Вебера город возникает как часть исторического процесса, в ходе которого общество создает институты, с помощью которых оно будет политически и экономически доминировать. Таким образом, динамические процессы городской среды подвергаются институциональной организации, в результате чего создается бюрократическая рационализация. Плодом соединения бюрократической машины с политикой является национальное государство. Установленный таким образом порядок национального государства корреспондирует с максимальной территориализацией идентичности обитателя города. Порядок национальных государств, вышедший из номенклатурной сетки городских институтов, как показывает Ирвинг Гофман, означал порядок однородности, классифицированной в информационные таблицы, согласно принадлежности к определенной нации, месту жительства и сегменту в социальной стратификации. Предельная территориализированная идентичность корреспондировала с: а) жестко установленной территорией национальных государств вместо территории священного центра власти бога или суверена; b) правами национального государства и правами человека вместо иррационального космологического порядка; с) паспортом, удостоверениями личности и иными таблицами регистрации вместо пространства личного знакомства и доверия. Растущая роль надзора и контроля в развитии национальных Государств Нового времени привела к уничтожению идентичности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
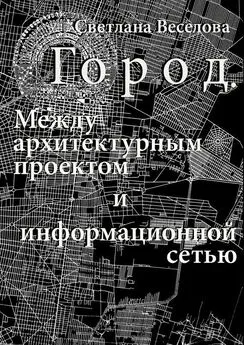

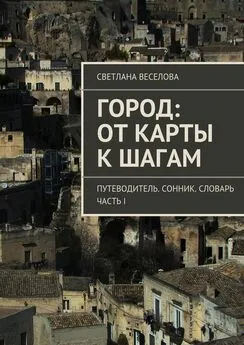
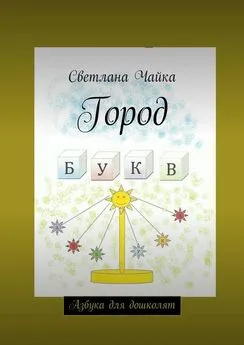
![Светлана Казакова - Город, где живёт магия. Книга 1 [publisher: ИДДК]](/books/1068076/svetlana-kazakova-gorod-gde-zhivet-magiya-kniga-1.webp)