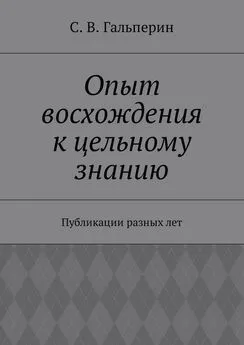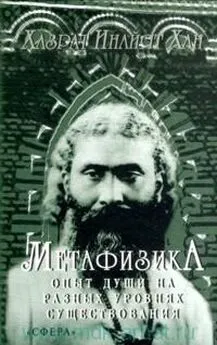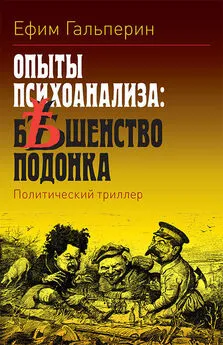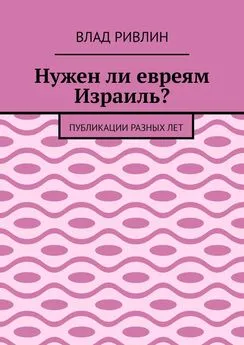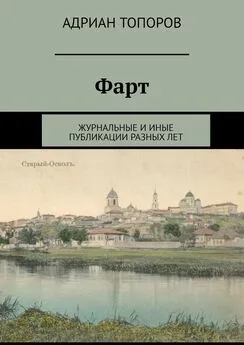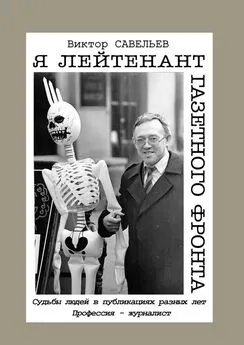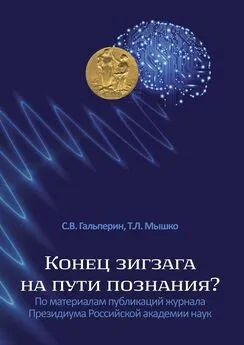С. Гальперин - Опыт восхождения к цельному знанию. Публикации разных лет
- Название:Опыт восхождения к цельному знанию. Публикации разных лет
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448573316
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
С. Гальперин - Опыт восхождения к цельному знанию. Публикации разных лет краткое содержание
Опыт восхождения к цельному знанию. Публикации разных лет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Цельное знание соединяет науку, религию, искусство, в которых отразилось извечное стремление человека к Истине, Добру, Красоте. Но соединяет не механически, предлагая некую сумму знаний, упакованных, соответственно, в сумму учебных дисциплин. Его основой является личностное начало, скрытое во всякой вещи; тайное, сокровенное Слово, воплотившееся в Абсолютной Личности. Потому и самому слову «образование» возвращается изначальный смысл: формирование образа мира в индивидуальном сознании, совмещающееся со всеми формами самораскрытия личности: интуицией, познанием, стремлением (волей), чувством.
Истинная свобода – во Всеединстве. Но к нему не приводят ни эмпирический опыт, ни рефлексирующий интеллект, а лишь внутреннее видение (озарение), интуиция. И тогда кажущаяся отвлечённость откровения святых отцов о нераздельности и неслиянности Св. Троицы, их суждения о сложности сложения, о разделении и различении, об энергии сущности и благодати приобретает истинную конкретность и придаёт совершенно новый смысл числам и математическим операциям, «незыблемым» законам природы, привычным словам и выражениям.
В самой стихии русского языка ярко выявляется стремление к этому изначальному Всеединству: предлог «в», символизирующий вмещённость, – наиболее распространенное слово по частотному словарю, в то время как сама вещная определённость оказывается менее важной (в русском языке в отличие от европейских нет артиклей). Сама судьба человека, осуществляющаяся в борьбе между добром и злом, жажде самовыражения, духовной устремлённости предстаёт как неповторимая и неуничтожимая точка на непрерывной линии священной истории – продолжающегося диалога Человека с Богом.
Невыносимо трудно не только разрушить, но даже поколебать устойчивые стереотипы нескольких поколений, живущих ныне. Именно они, надёжно угнездившись в сознании, не позволяют выйти за пределы царства необходимости, предлагают ложные пути и ориентиры, сохраняя подчас духовную слепоту у самых высокообразованных людей, у весьма авторитетных политических лидеров. Итоги этого могут быть плачевны, что известно из евангельской притчи о слепом, ведомом слепым.
Но именно поэтому творческую энергию личности, которой щедро наделена Россия, следует сконцентрировать на осознании образа Божия в себе. Это необходимый этап грядущего религиозного преображения, которое предчувствовали, к которому стремились русские мыслители-духовидцы. Это продолжение некогда прерванного культурно-духовного Возрождения России – пути к Богочеловечеству.
Журнал
«СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН»
ноябрь, 1995 г.
К цельному знанию
Своё восхождение к вершинам любомудрия Алексей Фёдорович Лосев начал в эпоху русского культурного Ренессанса. Еще, будучи студентом Московского университета, он знакомится с С. Булгаковым, Е. Трубецким, С. Франком, И. Ильиным, П. Флоренским; его дипломное сочинение читает и одобряет Вячеслав Иванов. Уже в раннем очерке «Русская философия» передаётся ощущаемый им богоданный напор интеллектуально-духовной мощи, который не могут ослабить даже бурные события, потрясшие Россию: «Самостоятельная русская философия, поднявшаяся на высокую ступень апокалипсической напряжённости, уже стоит на пороге нового откровения, возможно, также и новой кристаллизации этого откровения…».
Высокое гражданское мужество А. Ф. Лосев проявляет в период жестокого подавления свободомыслия: выпускает в свет (1927 г. – 1930 г.) восемь книг, содержание которых резко расходится с господствующей в стране идеологией. В 1930 году его арестовали, следом за ним – жену Валентину Михайловну, единомышленницу и помощницу как в научных делах, так и в религиозной жизни. Он испытал кошмар Белбалтлага, где почти ослеп. После возвращения в Москву (1933 г.) Лосев был обречён на многолетнее молчание. Печататься он начал лишь после смерти Сталина, издав до конца жизни около пятисот работ в области филологии, эстетики, лингвистики, культурологии, истории, в том числе несколько десятков монографий. Лосев широко известен как автор фундаментальной «Истории античной эстетики».
Но именно в «ранних» трудах кристаллизовалось откровение, некогда предчувствуемое им. Они дают возможность не только по-новому осмыслить и почувствовать реальность, но и выявить волшебную связь времён в смутные годы конца настоящего столетия с культурно-духовным Ренессансом России начала столетия. Давайте же прикоснёмся к неисповедимой тайне, оставленной нам в наследие последним мыслителем серебряного века, лежащей в основе его цельного знания.
Тайна смысла
С самого раннего детства мы стараемся понять окружающий мир, задавая бесчисленные «что?», «как?», «почему?». Но ведь любая вещь, составляющая мир, есть прежде всего именно она сама . То же относится к миру в целом. Такую исходную позицию предлагает и Лосев: «Где этот мир? Каковы его свойства? Существует ли этот самый мир? – спрашивает он. – На все эти вопросы я могу сделать только указательный жест, и – больше ничего. Вот он – этот мир, говорю я, показывая рукой на всё окружающее. Каков он, этот мир? Вот он каков, говорю я, продолжая пользоваться тем же самым жестом».
Человеческий разум издавна отошёл от подобного восприятия. Он начал придавать вещам определённый смысл, который так и называется – определение . И в науке, и в житейской практике без этого не обойтись. Но выявить, что представляет собой вещь (о-пределить её), – значит установить границу её смысла, предел её значимости. А как же быть с тем, что вещь всё же «именно она сама»? Привычная для нашего общества философия предлагает не ломать над этим голову и прибегнуть к категории «материя». Но ведь мы имеем дело не с философской абстракцией, а с неисчерпаемой в своих свойствах материальной вещью.
Между тем решение проблемы необычайно просто, и мы по мере надобности прибегаем к нему, хотя и не строим на этом своё мировоззрение. Как часто упоминаем мы о «душе» и о «теле» (и не только по отношению к человеку), когда хотим сопоставить тайну внутреннего с явленностью внешнего. При этом мы не собираемся давать определение ни тому, ни другому. И правильно делаем! Нам достаточно констатировать, что в каком бы облике, в какой бы форме ни воспринималась нами вещь, то есть как бы она ни проявлялась вовне, её индивидуальность (самость), то есть внутреннее вещи сохраняется: внешнее всегда оказывается символом внутреннего . И это не искусственный приём, не условность, изобретённая человеком (в отличие от определения), а сама реальность, считает Лосев. Всё в мире, включая историю с её людьми и жизнью, символично.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: