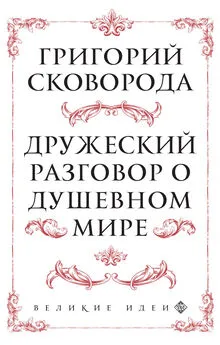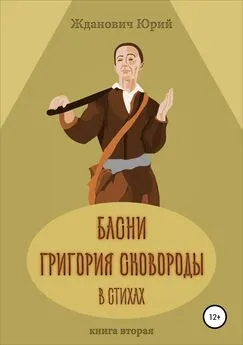Леонид Ушкалов - Григорий Сковорода
- Название:Григорий Сковорода
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Фолио»
- Год:2000
- Город:Харков
- ISBN:978-966-03-4661-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Ушкалов - Григорий Сковорода краткое содержание
Григорий Сковорода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Да и наша литературная традиция в поисках собственной идентичности снова и снова обращалась к миру сковородиновских идей и образов. Уже родоначальник новой украинской литературы Иван Котляревский смотрел на жизнь «оком сковородинца». По крайней мере, когда в финале знаменитой «Наталки Полтавки» пан Возный по фамилии Тетерваковский (тот самый, который в первом действии пел песню «Всякому городу нрав и права») все-таки не стал делать зла, вспомнив, что он "от рожденiя… расположен к добрим дiлам", а Мыкола и Выборный хвалят полтавчан за их добродетель, на ум сразу же приходит притча Сковороды «Убогий Жаворонок»: и легкомысленный тетерев Фридрик, и мудрый жаворонок Сабаш, и образ Украины как последнего отблеска того «золотого века», когда люди уважали правду по собственной воле, а не по принуждению… Одним словом, основная идея «Наталки Полтавки» – «сродность» украинцев к добру и их «несродность» ко злу – прямо вытекает из философии Сковороды.
Писателем-«сковородинцем» был и Григорий Квитка-Основьяненко. Говорят, Квитка любил рассказывать о своем знакомстве со Сковородой, о каких-то подробностях жизни философа и о его взглядах на мир. Неудивительно, что между философией Сковороды и мировоззрением Квитки можно провести немало красноречивых параллелей. Но, наверное, наиболее выразительно «сковородинство» Квитки-Основьяненко просматривается там, где речь заходит о Божьем промысле и «сродности» человека: «Не одинаковы звездочки на небесах, не одинакова и деревня по садам, – говорит героиня повести «Вот любовь» Галочка. – Не будет вишенка цвести яблоневым цветом, ей положен свой цвет. Не примет березонька липового листочка. Не выберет соловейко самочки не из своего рода. Всему свой закон, а человеку – еще и более того». Галочка, словно послушная ученица Сковороды, говорит здесь о Божьей «экономии», то есть о непостижимом для человеческого понимания премудром устройстве мира. Характерный для учения Сковороды христианский платонизм, который превращает весь мир в нечто вроде божественного театра марионеток, где смех и слезы являются непременными составляющими космического равновесия и гармонии, раскрывает и глубинную сущность трагедии героини Квитки. Галочка – лишь игрушка в руках всесильной судьбы. Выходит так, что эта девушка и родилась только для того, чтобы умереть от любви. Это действительно трагедийный образ, поскольку источник трагедии скрыт не в ней, не в ее собственных ошибках или пристрастиях, он – в причудливых лабиринтах Божьего промысла. И Галочка целиком полагается на волю Творца. Она воспринимает мир таким, каким он есть. «Философия Квитки, – сказал однажды Василий Бойко, – это философия колыбельной песни, чтобы спало дитя без грусти и забот». Но одновременно – это и философия жизни Сковороды, ведь тот, по словам его любимого ученика и первого биографа Михаила Ковалинского, «поверг себя в волю Творца…, дабы промысл Его располагал им, как орудием своим, где хочет и как хочет».
Сковородиновские набожные песни знал и гениальный поэт и художник Тарас Шевченко. Вспоминая о своем детстве, Кобзарь писал:
Давно те дiялось. Ще в школi,
Таки в учителя-дяка,
Гарненько вкраду п'ятака —
Бо я було трохи не голе,
Таке убоге – та й куплю
Паперу аркуш. I зроблю
Маленьку книжечку. Хрестами
I вiзерунками з квiтками
Кругом листочки обведу
Та й списую Сковороду…
Поэтому вряд ли случайно довольно мрачное философское начало шевченковской комедии «Сон» – того самого произведения, которое сыграло фатальную роль в жизни поэта, звучит как отзвук знаменитого сковородиновского псалма «Всякому городу нрав и права»:
У всякого своя доля
I свiй шлях широкий:
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край свiта зазирає…
Уже на переломе XIX и XX столетий Иван Франко, говоря о близких его сердцу писателях, тех, которые умеют по-настоящему «любить и ненавидеть, сходить с ума и бороться, плакать и смеяться», вспоминает Сковороду и, в общем, высоко его ценит. «Григорий Сковорода, – говорит он, – явление весьма заметное в истории развития украинского народа, может быть, самое заметное из всех духовных деятелей наших XVIII века». Еще больший вес имел Сковорода в то время для модернистов. Недаром же один из ведущих теоретиков украинского модернизма Андрей Товкачевский, рассматривая жизнь и философию Сковороды сквозь призму ницшеанских идеалов, с восторгом пишет: природа создала Сковороду, наверное, только для того, чтобы удостовериться в собственной способности «творить не только никчемных фигляров, но и богов». Но настоящим символом нашей духовной культуры с давних пор до сегодняшнего дня Сковорода станет во времена украинского Ренессанса 1920-х годов. Именно тогда Павло Тычина посвящает ему сборник «Вместо сонетов и октав» и начинает работу над поэмой-симфонией «Сковорода», которая по грандиозности замысла должна была стать «украинским «Фаустом»» XX столетия, Гнат Хоткевич ищет в учении Сковороды экзистенциальное убежище, герой рассказа Сергея Пилипенко «Ледолом» утверждает идею свободы словами Сковороды «Весь мир спит…», Мыкола Хвылевой называет его «великим украинским философом», Михайло Ивченко рисует образ Сковороды в повести «Напоенные дни», Юрий Яновский упоминает его как человека-«европейца» в романе «Четыре сабли», Валериан Полищук в своем «биографически-лирическом» романе «Сковорода» показывает философа отважным путешественником «в глубины духа», Михайло Драй-Хмара примеряет образ Сковороды-странника на самого себя («Розлютувався лютий надаремне…»), Мыкола Зеров берется за переводы написанной на латыни поэзии Сковороды, Юрий Клен начинает свой путь украинского поэта сонетом «Сковорода», а Максим Рыльский в стихотворении «Китаев» видит странствующего философа предтечей нового мира:
Хай прикладаються прочани
До переляканих iкон,
Хай прорiкає Первозванний
Царiв, панiв, корону й трон, —
Та з палицею пiлiгрима
У новi села й городи
Прямує тiнь неутолима
Григорiя Сковороди.
Сковорода – едва ли не единственный украинский классик, который выдержал ту кардинальную переоценку ценностей, которая происходила в нашей культуре в 1920-х годах. Даже для самых ярых радикалов того времени он остался знаковой фигурой. Недаром же тогда бытовало мнение, что молодые идеалисты, которых называют «первыми храбрыми», – творцы «октябрьской» Украины – в своих интеллектуальных поисках шли дорогой «от Сковороды к Марксу». Правда, уже совсем скоро выяснилось, что дорога «от Сковороды к Марксу» – это дорога в никуда, дорога от полноты бытия к полному небытию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
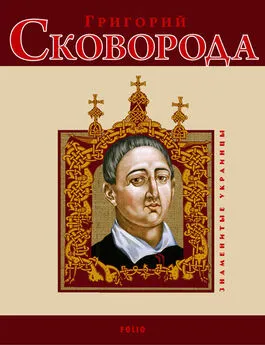
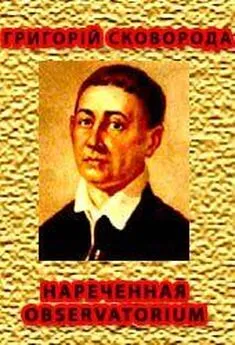
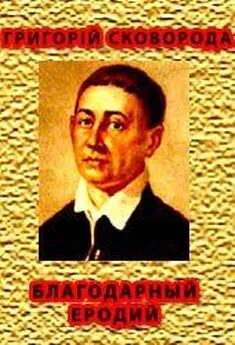
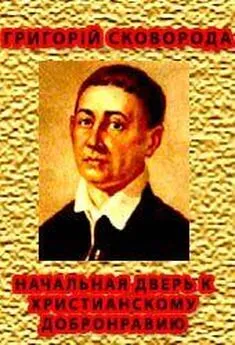

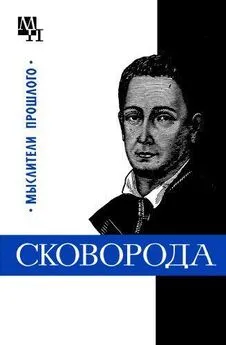
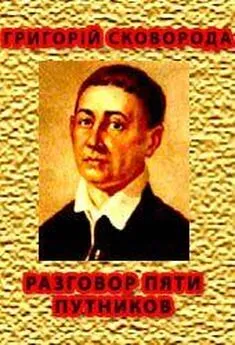
![Григорий Сковорода - Наставления бродячего философа [Полное собрание текстов]](/books/1098347/grigorij-skovoroda-nastavleniya-brodyachego-filosofa.webp)