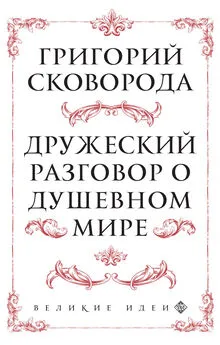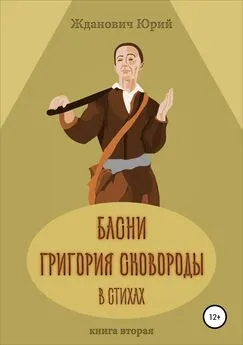Леонид Ушкалов - Григорий Сковорода
- Название:Григорий Сковорода
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Фолио»
- Год:2000
- Город:Харков
- ISBN:978-966-03-4661-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Ушкалов - Григорий Сковорода краткое содержание
Григорий Сковорода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А уже значительно позднее, в 1946 году, когда Европа лежала в руинах после безумия Второй мировой войны, Юрий Косач, вероятно вспоминая свои собственные вынужденные и трагические странствия по Европе, пытается представить себе дороги «искателя созвездий» Сковороды в поэзии «Регенсбургская встреча», которая заканчивается такими строчками:
I покрикувать знов вартовим на запилених, тихих заставах,
пропускаючи юрби й карети, лiниво: passieren [2] Проходите, проезжайте! (Нем.).
,
i роман, i барвiнок цвiте на дунайських отавах,
а вiн все мандрує, мандрує, шукальник сузiр'ïв.
Наконец, в октябре 1750 года, переполненный новыми впечатлениями, но без копейки за душой, Сковорода возвращается на родину. Какое-то время он жил у своих приятелей и знакомых, пока в конце 1750-го или в начале 1751 года переяславльский епископ Никодим Сребницкий не пригласил его на должность учителя поэтики в местный коллегиум. Сковорода с радостью согласился, поскольку любил и поэзию, и преподавательскую работу. Он подготовил курс лекций под названием «Рассуждение о поэзии» и подал его на суд начальства. Но здесь его ждало горькое разочарование. Его понимание поэтического творчества не удовлетворило владыку, поскольку, скорее всего, слишком уж сильно отличалось от устоявшихся в старой украинской школе основ поэтики. Трудно сказать однозначно, о чем именно шла речь – «Рассуждение о поэзии» не сохранилось, – но в собственных стихотворениях Сковороды можно увидеть по крайней мере две черты, которые могли сбить с толку Никодима Сребницкого. Во-первых, Сковорода часто употребляет так называемые «мужские» рифмы, то есть такое созвучие строк, при котором под ударение попадают их последние слоги. В то время школьная украинская традиция признавала правильными только «женские» рифмы, когда под ударением стояли предпоследние слоги строки. Во-вторых, Сковорода очень часто пользовался неточными рифмами, которые не раз приобретали характер обычных аллитераций. Это значительно расширяло возможности поэтического слова, но точно так же было нарушением традиционной нормы, которая признавала только точные рифмы. Возможно, Сковорода как раз и попытался теоретически обосновать, кроме прочего, то, что нормативность «женской» рифмы в украинской поэзии вовсе не является обязательной, ведь украинский язык, в отличие от польского, в котором слова имеют фиксированное ударение на предпоследнем слоге (мода на «женские» рифмы пришла в Украину как раз из польской поэзии), вполне позволяет применять различные типы рифм. Одним словом, епископ через консисторский суд потребовал от Сковороды, чтобы тот преподавал по-старому. Сковорода не согласился. Он ответил, что его понимание поэзии абсолютно правильное, поскольку отвечает природе вещей, и еще добавил при этом крылатую фразу: «Alia res sceptrum, alia plectrum», – то есть «Одно дело скипетр, а другое – плектр». Именно так, согласно легенде, ответил некий музыкант царю Птолемею, когда тот во время разговора о музыке стал настаивать на собственном мнении. Естественно, епископ оскорбился и тут же, собравшись с силами, собственноручно написал на консисторском докладе не менее изысканную фразу: «Не живяше посреди дому моего творяй гордыню». Это был седьмой стих сотого псалма Давида, и понимать его следовало очень просто: хочешь быть гордым – иди прочь! После такого обмена «любезностями» Сковороде уже нечего было делать в стенах Переяславльского коллегиума. Как напишет впоследствии Михаил Ковалинский: «Это был первый опыт твердости духа его». Да и сам Сковорода еще долго помнил об этой досадной истории. Спустя много лет он расскажет тому же Ковалинскому как однажды встретился с монахом, который был очень мрачен, да еще и суеверен. Этого человека мучил «демон печали». «Я, – писал философ, – начал его утешать, пригласил к себе, предлагал вино – он отказался. В поисках темы для разговора я стал жаловаться на докуку от мышей: они прогрызли верхний пол и проникли в мою комнату. «О, это очень плохое предзнаменование», – сказал он. Словом, своим разговором он передал мне большую часть своего демона… Таким образом, демон печали стал поразительно меня мучить то страхом смерти, то страхом предстоящих несчастий. Я прямо стал гадать таким образом: переяславские мыши были причиной того, что я был выброшен с большими неприятностями из семинарии, следовательно, и т. д. Так было в доме того-то и того-то (он представил бесчисленное множество примеров), и незадолго тот и тот умер. Таким образом, очаровательнейший Михаил, весь день этот софист-демон меня мучил, и я на это намекал тебе вчера, сказав: мне немного печально было. Ты спросил как? "Было, – ответил я, – немного"».
В завершение этой истории следует сказать, что в споре Сковороды с переяславльским владыкой правда все же была на стороне нашего философа. Дальнейшее развитие поэзии пойдет путем ее «раскрепощения» в духе Сковороды. Со времен Тараса Шевченко и «мужские», и неточные рифмы становятся обычным делом в украинской литературе. Хотя и сила традиции была заметной. Например, российской поэзии понадобились гении Александра Блока и Владимира Маяковского, чтобы «нечистые», то есть неточные, рифмы наконец-то завоевали себе место под солнцем.
После увольнения из Переяславльского коллегиума Сковорода оказался в крайне бедственном положении. В то время из имущества у него не было ничего, если не считать двух старых сорочек, камлотового кафтана, пары башмаков и пары черных гарусовых чулок. Во всяком случае, осенью того же года Сковорода снова возвращается в свою alma mater и начинает слушать курс «Православное христианское богословие» у префекта академии Георгия Конисского – известного поэта, философа и богослова, который мог с одинаковым блеском написать и чудесное набожное стихотворение, и направленный против Вольтера полемический трактат, и игривую интермедию, и религиозную драму. Этот курс включал догматику, моральное богословие, историю Церкви, каноническое право, Святое Писание, древнееврейский язык с элементами арабского и сирийского. Впрочем, обучение в классе богословия Сковорода не завершил: где-то осенью 1753 года по рекомендации киевского митрополита Тимофея Щербацкого он становится воспитателем Василия Томары – старшего сына богатого помещика Степана Томары, и отправляется в село Каврай, за 36 верст от Переяславля.
Рассказывают, что мальчонка был крайне избалован матерью – дочкой полтавского полковника Василия Кочубея и Анастасии Апостол Анной. Очевидно, высокомерная пани позволяла своему первенцу делать все, что душа пожелает. К учителю она отнеслась очень холодно. Впрочем, еще более холодно отнесся к нему сам хозяин – человек умный, образованный, но без меры гордившийся своим благородным происхождением и богатством. Взять хотя бы то, что даже спустя год после того как Сковорода начал учить его сына, он упорно делал вид, что учитель для него – пустое место. Томара не соизволил перемолвиться с ним словечком, хотя каждый Божий день встречался с ним за одним столом. Нетрудно представить, насколько болезненным было такое поведение хозяина для Сковороды, у которого всегда хватало чувства собственного достоинства, а порой и гонора. Но в любом случае философ добросовестно выполнял предусмотренные контрактом обязанности. Он уже успел полюбить своего непослушного воспитанника, который оказался одаренным, сообразительным и бойким. Вот какие стихи Сковорода написал тогда, когда Василию исполнилось двенадцать лет:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
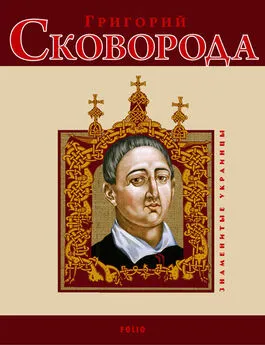
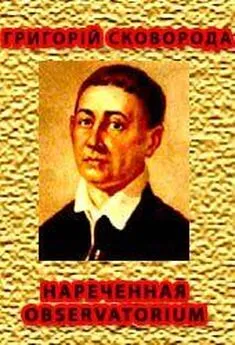
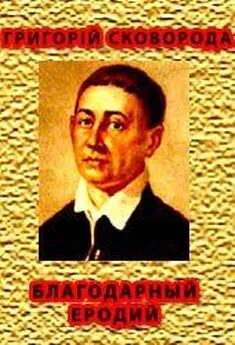
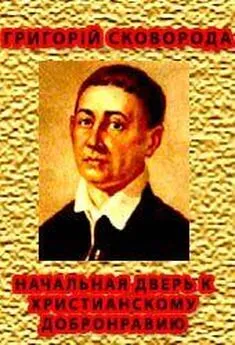

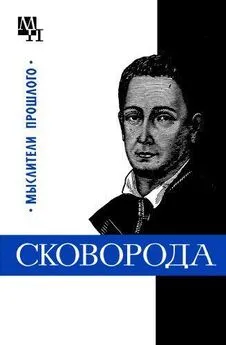
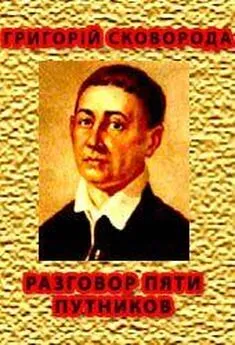
![Григорий Сковорода - Наставления бродячего философа [Полное собрание текстов]](/books/1098347/grigorij-skovoroda-nastavleniya-brodyachego-filosofa.webp)