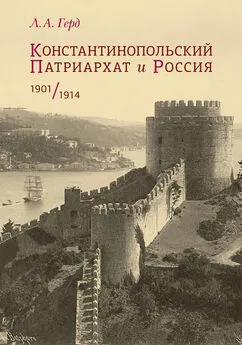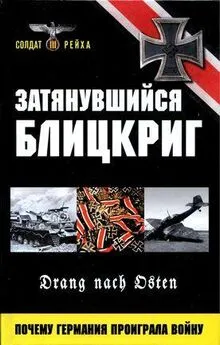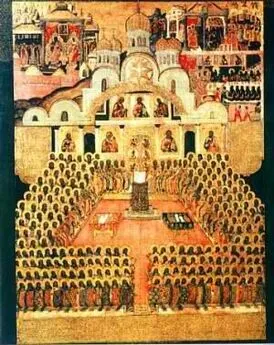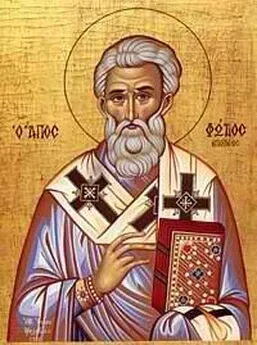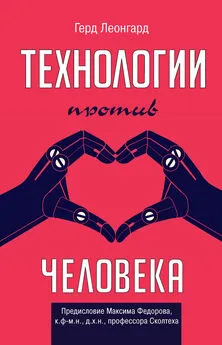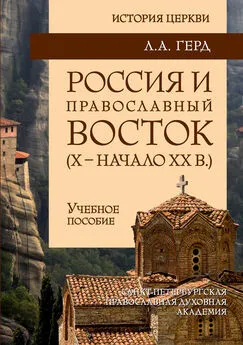Лора Герд - Константинопольский Патриархат и Россия. 1901–1914
- Название:Константинопольский Патриархат и Россия. 1901–1914
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Индрик
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91674-233-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лора Герд - Константинопольский Патриархат и Россия. 1901–1914 краткое содержание
Константинопольский Патриархат и Россия. 1901–1914 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Курс на сохранение status quo на Балканах сковывал и развитие мессианских идей в России. Толчком к выходу из состояния стагнации послужили поражение в русско-японской войне и революция в России. Объявление свободы слова и печати, назначение министром иностранных дел А. П. Извольского, склонного к активной политике на Ближнем Востоке, – все это способствовало пробуждению идей наступательного движения России в сторону ее «исторической вотчины» – Константинополя. В этом вопросе соглашались политики как левых, так и правых партий. В начале 1908 г. П. Б. Струве выступил в газете «Русская мысль» со статьей о «Великой России» и советовал направить все силы на бассейн Черного моря, ту область, которая действительно доступна реальному влиянию русской культуры, так как из экономического господства там России «само собой вытечет ее политическое и культурное преобладание на всем так называемом Ближнем Востоке» [106] Русская мысль. Январь 1908 г. С. 146.
. «Московские ведомости» радостно подхватили эту идею, переставив в ней акценты в соответствии с традиционной монархической теорией: «Мы считаем Ближний Восток нам близким, родным, своим не в силу экономических выгод […], – а наоборот, в силу наших двадцати пяти-вековых уже связей с этим греческим, а потом византийским Востоком, откуда мы почерпнули некогда свою образованность, где и доныне не совсем еще потухли ее старые, греко-славянские очаги». Под «Ближним Востоком» автор этой статьи понимал не только турецкие территории, но также и славянскую часть Австро-Венгрии, на которую тоже должно, по его мысли, распространяться русское влияние. Черное море, «Русское море», должно стать «естественной базой нашего могущества в наших отношениях к Турции и к христианам Востока, а равно и к великим державам Средиземноморского бассейна» [107] Передовая статья «На Ближнем Востоке» (Московские ведомости». 7(20) марта 1908 г. № 56).
.
Речь министра иностранных дел А. П. Извольского в Думе 4 апреля 1908 г., в которой впервые прозвучал термин «национальная политика», послужила новым стимулом к развитию неовизантийского направления в общественно-политической мысли. В отличие от узконациональных политических программ балканских государств, где отождествление этнической и церковной принадлежности было залогом национального выживания и основой строительства государства, Российская империя в своей внешней политике на Ближнем Востоке никогда не ставила во главу угла принцип национальной исключительности. Еще в 1880-е годы, с поворотом политики к национальным началам, за основу ее была взята византийская наднациональная, вселенская идеология. Именно возвращение Константинопольскому патриархату его подлинного вселенского назначения было объявлено лозунгом церковной политики России конца XIX в. Строя проекты вовлечения в свою государственно-идеологическую сферу других православных народов, ни русское правительство, ни теоретики этих планов не предполагали какого-либо национального давления на эти народы: напротив, развитие культуры каждого из народов приветствовалось. Другое дело, что идеальная концепция не всегда работала на практике там, где была возможность ее практического осуществления.
Своего апологета русская имперская идея в начале XX в. нашла в лице Л. А. Тихомирова (1852–1923). В прошлом революционер-народник, в конце 1870-х гг. Тихомиров пришел к крайним консервативным убеждениям и представил обоснованную теорию русского монархизма, связав его с монархизмом византийским как своим непосредственным предшественником [108] Тихомиров А. А. Монархическая государственность. СПб., 1905. 2-е изд. СПб., 1992.
. «Византийская государственность, – писал он, – лишь в очень малой степени строилась на идее царя-Божия служителя. Эта идея только освятила абсолютистскую власть, которая, однако, не получила перестройки сообразно с ней, а сохранила юридически староримский смысл». Недостатки римской государственной системы, не давшей развиться социальному строю, привели к неспособности Византийской империи ассимилировать включенные в нее народности и не дали византийскому автократору развиться в истинную верховную власть [109] Заметим, что Тихомиров, как и многие монархисты его времени, не являвшиеся профессиональными историками, видел византийское самодержавие в том ракурсе, который соответствовал его концепции. Исследования XX в. показали, насколько далеко эти построения стояли от исторической реальности. См.: Dagron G. Empereur et Pretre. Etude sur le «Cesaropapisme» Byzantin. Paris, 1996. Рус. пер.: Дагрон Ж. Император и священник. Этюд о византийском «цезарепапизме». СПб., 2010.
. «Настоящий тип монархической верховной власти, – продолжал Тихомиров, – определяющей направление политической жизни, но в деле управления строящей государство на нации, живой и организованной, – этот тип государственности суждено было, впоследствии, развить Московской Руси, взявшей благодаря урокам Византии монархическую верховную власть в основу государства, а в своем свежем национальном организме нашедшей могучие силы социального строя, в союзе с которыми монарх и строил свое государство» [110] Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. СПб., 1992. С. 193–195.
.
По мнению Тихомирова, Россия представляет собой страну с благоприятными условиями для выработки идеальной монархической верховной власти. «Политическая сущность бытия русского народа состоит в том, что он создал свою особую концепцию государственности, которая ставит выше всего, выше юридических отношении, начало этическое. Этим создана русская монархия, как верховенство национального нравственного идеала, и она много веков вела народ к преуспеянию, к всемирной роли, к первой роли среди народов земных – именно на основе такого характера государства» [111] Там же. С. 388.
. Монархический принцип силен в нравственном единении с народом, однако в России это единение после Петра I было чрезвычайно слабо. Идеалом монарха для Тихомирова является Александр III, которого он сравнивает с Константином Великим. Церковь – самая крепкая опора царской власти в России. Русское национальное сознание, пробудившееся в лице славянофилов, вступило во второй фазис своего развития в лице Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева; теперь этому сознанию, как считал Тихомиров, суждено пережить новый, более высокий этап [112] Тихомиров А. А. Русские идеалы и К. Н. Леонтьев // Тихомиров А. А. Критика демократии. М„1997. С. 515–516.
. Эти идеи были подхвачены другими теоретиками русского самодержавия, среди которых все чаще высказывалась уверенность, что в скором времени «Константинопольская вотчина» станет русской [113] Черняев Н. Мистика, идеалы и поэзия русского самодержавия. М., 1998; Захаров Н. А. Система русской государственной власти. Новочеркасск, 1912; Казанский П. Е. Власть всероссийского императора. Одесса, 1913.
.
Интервал:
Закладка: