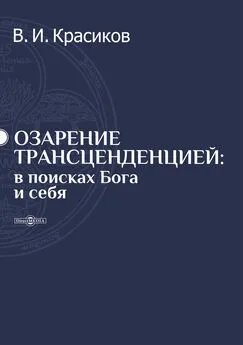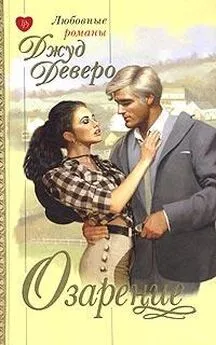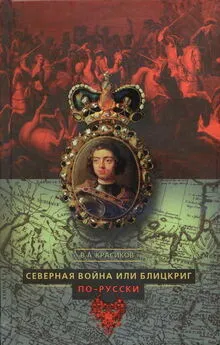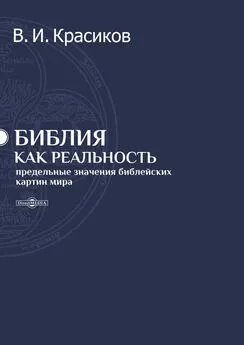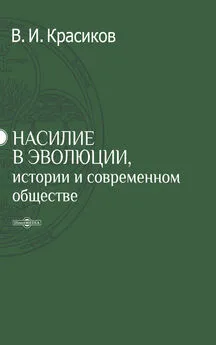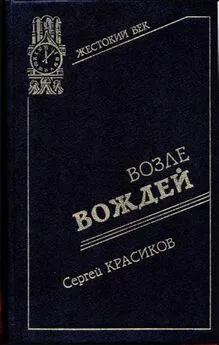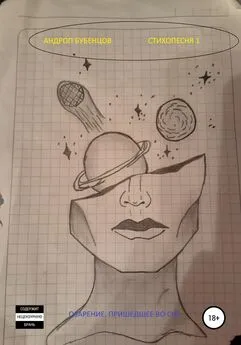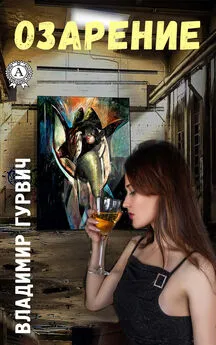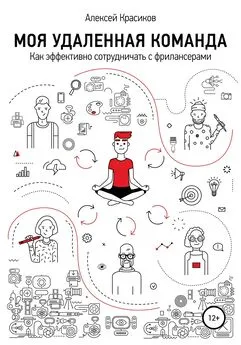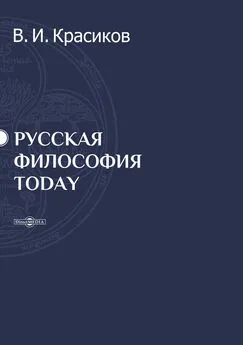Владимир Красиков - Озарение трансценденцией
- Название:Озарение трансценденцией
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Директмедиа
- Год:2014
- Город:Москва-Берлин
- ISBN:978-5-4475-3770-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Красиков - Озарение трансценденцией краткое содержание
Озарение трансценденцией - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В социальном плане «сотериологической общностью» называют особый тип объединения, который появился как один из вариантов коллективной жизни в переходе от древнейшего (первобытного) общества к городской цивилизации, государству (традиционному обществу). Это «общинная религиозность радикального типа», основанная на этике «религиозного братства» 58 58 Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994. С. 12.
, где объединение происходит на основе поклонения и следования религиозному лидеру, противостоянию окружающему социальному миру. Подобная форма «живой религиозности» – стадия возможного превращения в традиционную религиозность. Классическая полная схема развития религиозности в социологическом смысле: «харизматический культ – секта – деноминация – церковь».
Собственно «живыми» формами религиозности, где самим законом их необычности и новизны в сравнении с окружающей социальной жизнью является радикализм их самоизоляции, являются первые две из выделенных Вебером. Эти формы религиозной жизни – постоянные персонажи религиозного пейзажа, начиная со складывания и утверждения в качестве доминанты новой, «трансцендентной» религиозности. Само это постоянство говорит о том, что подобные общности реализуют те людские запросы, которые не в состоянии удовлетворить ни социальное окружение (в том числе и ближайшее: родственники и брачные партнеры), ни деноминации и церкви. Объяснения тому, принятые обиженными родственниками и конфессиями, – обман, эксплуатация, соблазн, «великая прелесть» – справедливы по отношению либо лишь к части культов и сект («накипь»), либо лишь с точки зрения тех социальных норм, от которых-то и бегут «спасаемые».
Основная ошибка или «слепое пятно» восприятия в подобных объяснениях – отказ принять неприятную очевидность: люди добровольно идут к новой религиозности, находя там то, что им не дают в «социально-нормальной» жизни. Когда говорят, что «если бы новообращаемым все рассказали, что с ними случится, что от них потребуют и во что превратят – они бы никогда не пошли туда», то это большая демагогия. По такой логике общественная жизнь как таковая также бы прекратилась, если бы мужчинам доходчиво и в полном объеме показали реальное состояние того, что называется «браком, семейной жизнью»; если бы стяжающим славы и богатства показали конечные реальные состояния полной относительности и эфемерности взыскуемого; если бы вообще юноше показали его будущее неизбежное состояние старческой немощи.
Как известно, большинство уходящих в формы «живой религиозности» благополучно там и остаются. Можно, конечно, понять чувства близких родственников и разочарование дипломированных утешителей, однако вряд ли мы обладаем правом оценки меры счастья или несчастья для тех, кто находит утешение в нетрадиционных формах религиозности.
Попытаемся все же ответить на вопрос о мировоззренческо-психологической подоплеке решения круто изменить свою жизнь тех людей, которые во все времена составляют контингент сотериологических общностей. Опыт знакомства с многочисленными, разноплановыми свидетельствами подводит к мысли о том, что следует говорить о комплексной мотивации, куда включены как потребности, присущие всему контингенту этих общностей, так и специфические, характерные для двух, явственно различаемых в данном контингенте, категорий людей.
Среди общих потребностей видятся по крайней мере две. Одна – можно сказать «явная» для сторонних наблюдателей, равно как и «явственная» для самих «ищущих». Вторая – неявная и, похоже, корневая для всего этого контингента людей.
Первая уже упоминалась, это потребность в живом религиозном опыте – не просто общения, а раскрывающегося, душевного взаимопроникновения со значимо-единственным человеком, где любовь и понимание, принятие тебя таким, как ты есть, – основа радости обретения себя, своей значимости, реального самоутверждения в сущем. Люди, не сумевшие реализовать ее, так сказать, в ординарном, повседневном порядке, стремятся в отчаянии реализовать ее в неординарном, внеповседневном контексте, когда секта и ее лидер становятся «семьей». Можно, наверное, дискутировать о социальной «естественности – неестественности» этого контекста или о мере свободы и условиях развития человеческой личности. Однако немало и в нормальной естественной жизни одиозных групповых самозамыканий, а большинство людей, пребывающих в культах и сектах, вряд ли бы самостоятельно персонализовались, оставаясь в обыденной среде. Они – «потребители», и их ego имеет заемный характер: какая разница, будет ли это расхожий массовый шаблон либо достаточно необычная религиозная модель поведения?
Другую потребность можно обозначить как подспудное стремление к жизненному экспериментированию. Многие люди стремятся к необычному, что, может, и составляет наиболее человеческую из человеческих черт. Оно проявляется довольно разнообразно: как тяга к путешествиям, рискованным предприятиям, перемене окружения, партнеров, видов деятельности. Однако самое необычное может произойти с человеком, когда все обозначенное выше комбинируется еще и с самым радикальным, что способен пережить человек, – душевной трансформацией, душевным перерождением. Для большинства людей жизненное экспериментирование ограничивается периодическими и выборочными изменениями контекста своего существования. Само существование спонтанно саморегулируемо запрограммированной жизнью тела, где переход через основные ее стадии опосредован и управляем социальными обстоятельствами и «расписанием» возможных кризисов развития. На максимализацию интенсивности жизненного экспериментирования решаются немногие, у которых тяга к новым жизненным ощущениям и новым идентичностям побеждает природный же консерватизм человека, его охранительное, стабилизирующее начало.
Потребность в трансформационном опыте особенно велика и «антропологически естественна» в жизненных окрестностях юношеского кризиса и кризиса среднего возраста, чем и объясним возрастной состав приверженцев новообразуемых культов и сект.
Трансформационный опыт, как известно, сильно изменяет личность, вне зависимости от того, произошло это в итоге собственных усилий либо это следствие «сектантского конвейера». Подобные трансформации сопровождаемы беспрецедентным для человека духовным подъемом, сильными, необычными ощущениями. Это-то и привлекает известную часть людей, готовых обменять свою душевную суверенность на новую идентичность, которую они вряд ли бы получили в обычных повседневных условиях 59 59 Впрочем, имеются и другие, сходные формы жизненного экспериментирования, также радикального толка: политические движения, литературный, музыкальный, художнический авангард, маргинальные, криминальные субкультуры.
.
Интервал:
Закладка: