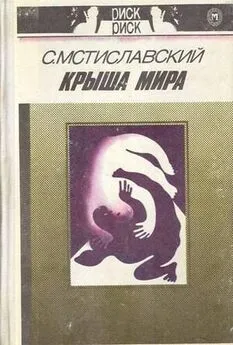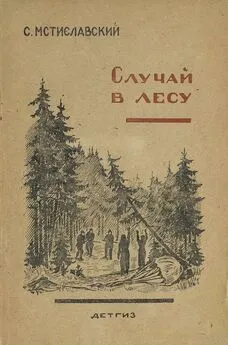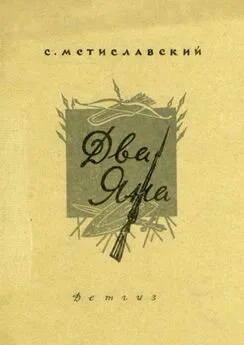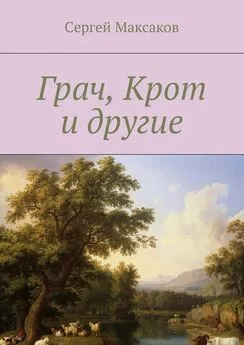Сергей Мстиславский - Грач - птица весенняя
- Название:Грач - птица весенняя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Мстиславский - Грач - птица весенняя краткое содержание
Эта повесть — историко-библиографическая. Она посвящена жизни и деятельности Николая Эрнестовича Баумана (1873–1905) — самоотверженного борца за дело рабочего класса, ближайшего помощника В.И.Ленина в создании и распространении первой общерусской марксисткой газеты «Искра»
Грач - птица весенняя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
К Дону?! Эк куда занесло!.. Впрочем, так и быть должно. Задонск-стало быть, за Доном.
— А Елец где, дед?
Нищий дернул головой испуганно:
— Елец? Что ты! Христос с тобой! Далеко Елец.
Он пробормотал еще что-то и встряхнул на плечах мешок. В мешке хрустнуло. Корки хлебные? Корки ведь подают чаще всего в подаяние, в милостыню таким вот бродячим, когда они гнусят под окнами застуженными своими голосами: «Подайте Христа ради нищему, убогому!..»
Затошнило опять. Словно кто выворачивал наизнанку желудок. Ведь всего сутки какие-нибудь не ел… Это всё оттого, очевидно, что на ходу, в движении. И воздух такой — мороз, поле, лес…
— Хлеб есть, дед? Продай… на пятак.
— Хлеба? — Нищий воззрился на Грача и внезапно выставил палку, словно обороняясь: — Уходи от греха, лихой человек! Уходи, говорю, душегуб! Кри-ичать буду! Вона мужики на поле… Прибегут.
Он отодвинулся в сторону, прочь от дороги, в сугроб, и в самом деле разинул рот, широко, готовясь заорать благим матом, весь взъерошенный, колючий, патлатый.
Мужиками он пугнул нарочно: мужиков не было видно — по сторонам на белых буграх чернели одни вороны. Березовый, крестами изрезанный посошок дрожал в дряхлой руке; ничего не стоило взять за шиворот этого старого бродягу и высыпать из мешка столько набранных корок, сколько рука захватит. Идти до Задонска и дальше на голодный желудок, конечно, было немыслимо.
— Не дури, дед! — хладнокровно сказал Бауман, доставая из кошелька пятак. Я тебе не душегуб, а и вовсе доктор: лечу людей, а не гублю. И ежели мне захотелось, дорогой идучи, корочку пососать, так баламутить поэтому всю округу визгом никакого резону нет… Сыпь, я говорю, на пятак. Вот они, деньги… А иду я, может быть, святым на поклонение, по обету. Может быть, и пост поэтому держу.
Мешок был грязен, и корки бог знает какою рукою поданы и в каком соседстве засохли. Но Бауман со вкусом хрустел ими на ходу. Совсем иной стал ход с тех пор, как он прожевал первую черствую, щекочущую нёбо ржаную пахучую горбушку.
Нищий ковылял далеко позади. Бауман бросил его за первым же поворотом дороги. Он шел нарочно скорее, хотя спешить было ему не по силам, так как левая нога опять заныла, стала подгибаться на ухабах и спусках. Но старик не годился в попутчики; лучше, чтобы он и след потерял его, Баумана.
Шоссе, о котором старик говорил, оказалось действительно неподалеку. Но идти по нему было не легче: оно было разъезжено, и больная нога подвертывалась чаще, чем на проселочной, снегом заровненной, спокойной дороге.
Сколько прошел? Ни примет, ни признаков. Поля кругом, холмики и холмы; из-за холмов по левую руку нет-нет вырвется ледяной, недвижный поворот широкой реки: Дон, очевидно. Над головой по-прежнему серое-серое, непроглядное, неприютное небо. Часов нет, и никак не определить, далеко ли отшагал и намного ли отошло от утра к вечеру время.
Справа не раз, пока шел Бауман, взбегали на шоссе, выгибаясь, подъемом к мощеному настилу дороги, проселки. И где-то на конце их, далеком, горбились по косогорью, курясь скупыми синими дымками, избушки дальних деревень. Но на самом шоссе не попалось ни села, ни деревни, ни даже придорожной какой караулки. И людей за весь день не встретилось ни одного, кроме давешнего нищего старика. Только однажды далеко-далеко по-за Доном промаячил гуськом десяток чем-то груженных саней.
Внезапно в угон Грачу дошел неторопливый, размеренный лошадиный топот, повизгиванье скользящих на раскатах полозьев. Он оглянулся. Вихляя и ухая на ухабах, поравнялись с ним розвальни. Крестьянин в армяке, опоясанный красным широким поясом, пытливо оглянул Баумана на ходу, подозрительно хмуря густые заиндевелые брови, и, раньше чем Бауман успел раскрыть рот, чтобы поздороваться и спросить, вытянул кнутом мохнатую низкорослую крепкую лошаденку, гикнул протяжно и дико, — сани пошли вскачь.
Отскакав сажен на сто, крестьянин остановил лошадку и стал дожидаться шедшего следом нарочито замедленным и беззаботным шагом Баумана. Когда тот подошел, крестьянин спросил, голосом низким и хриплым:
— В Хлебное, что ли, барин?
Грач ответил без запинки:
— В Хлебное.
— К доктору — к Вележову, Петру Андреевичу?.. Садись, подвезу.
Бауман без колебания сел, сдвинул в сторону лежавший на дне розвальней, в сено зарытый мешок. Мешок сотрясся отчаянно. Грача шатнуло в сторону от пронзительного поросячьего визга. Крестьянин покосился на седока недовольно:
— Ты его, однако, не вороши. Волк, между прочим, поросячий голос за десять верст слышит.
— А разве тут волки есть?
Крестьянин повел глазами вокруг — по холмам, по открывшемуся опять слева ледовому простору Дона. За Доном черной стеной поднимался по крутогорью лес.
— Как волкам не быть? Жилья тут нет. Лес да овраги. А время-то — к вечеру.
Он подхлестнул лошадь. Поросенок хрюкнул, уже успокоенно, и замолк. Бауман спросил, устраиваясь поудобней на сене:
— Ты почему догадался, что я к Петру Андреевичу?
Крестьянин осклабился:
— А то к кому? Тут на сорок верст вокруг, кроме него, людей нет: мужики одни.
Помолчал, сплюнул:
— Хор-роший человек. Радеет о мужичке.
Бауман насторожился.
— Это… как же радеет? В каком смысле?
Крестьянин оглянулся и подмигнул многозначительно, будто намеком:
— Сами знаете! — И огрел кнутом лошаденку так озорно и круто, что она сразу рванула диким и корявым галопом. — Но, ты… покорная!..
Глава XXIII
«РАДУШИЕ»
Крестьянин ссадил Баумана у околицы: докторский дом с больницею рядом — на отлете, чуть в стороне от села.
Дом — бревенчатый, с крутой крышей — по самые окна осел в сугробы. Снегом заметена открытая, за резными жиденькими столбиками, терраса; завален снегом по самые острия частокола палисадник у дома; ни дорожек в нем, ни следов, ни снежной веселой бабы с толстым носом, с черной метлой под ледяным, водой окаченным, застуженным локтем. Значит, детей в этом доме нет. Грач поморщился: дом, в котором нет детей, — дом недобрый.
Он зашел со двора. Из конуры высунула лениво лохматую морду собака, приоткрыла пасть, собираясь залаять, да так и не залаяла.
Поднялся на крыльцо, постучал железным кольцом по обитой войлоком двери. Нет, не гулко выходит. Он ударил всем кулаком, весело и крепко.
И тотчас почти отозвался бабий сварливый голос:
— Кто там? Чего ломишься?..
Бауман отозвался:
— К Петру Андреевичу.
Но дверь не шелохнулась.
— Кто, я говорю?
— Приезжий. Товарищ Петру Андреевичу. — И так как опять не двинулась опасливая, недоверчивая, глухая эта дверь, он добавил почти что угрожающим тоном: — Из Санкт-Петербурга, из столицы самой.
Щелкнул крюк. Иззябшей рукой Бауман дернул к себе дверь. В лицо пахнуло жаром натопленной кухни. Навстречу глянуло жиром налитое, круглое, как блин, глупое бабье лицо.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: