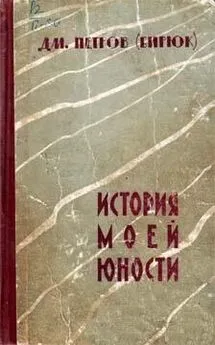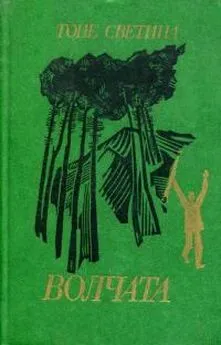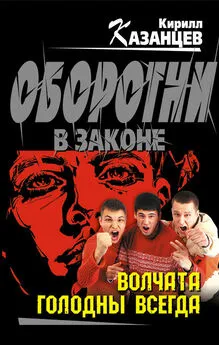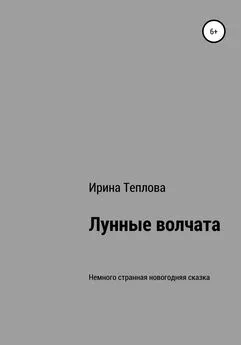В Бирюк - Волчата [СИ]
- Название:Волчата [СИ]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:СИ
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
В Бирюк - Волчата [СИ] краткое содержание
Волчата [СИ] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Степняки идут на Русь большими отрядами. Пробив порубежье, рассыпаются на отряды, около сотни человек в каждом, для ловли полона. Выходя назад, они снова собираются вместе. И, уходя от порубежья, вытаптывают траву в степи. По вытоптанному полон можно и рядами гнать.
Захваченных в неволю расставляют в ряды по нескольку человек, связывают им назад руки сыромятными ремнями, сквозь ремни продевают деревянные шесты, а на шеи набрасывают верёвки; потом, держа за концы верёвок, окружают всех связанных цепью верховых и, подхлёстывая нагайками, безостановочно гонят по степи. Слабым и немощным перерезают горло, чтобы не задерживали движение.
У Днепра и у Волги есть притоки, называемые одинаково — Самара. За ними степняки чувствуют себя в безопасности. Здесь полон останавливают и развязывают. От этого, возможно, и второе название такого способа увязывания — «самара».
Достигнув относительно безопасных земель, степняки пускают своих лошадей в степь на вольный попас, а сами приступают к дележу ясыря (полона), предварительно помечая каждого невольника раскалённым железом, подобно тому, как метят скот в степи. Получив в неотъемлемую собственность невольника или невольницу, каждый джигит волен обращаться с ними, как с собственною вещью. Женщин и девушек часто здесь же насилуют, в том числе при мужьях, родителях и детях.
В процессе угона полона один удар саблей сзади по ремню, через который продет деревянный шест, позволят отделить немощного от общей связки. Основная масса пленных продолжает бежать дальше, а выпавшего можно спокойно дорезать.
Очевидец из немцев уже в 17 в. даёт описание:
«…старики и немощные, за которых невозможно выручить больших денег, отдаются татарами молодёжи, как зайцы щенкам, для первых военных опытов; их либо побивают камнями, либо сбрасывают в море, либо убивают каким-либо иным способом».
Французский герцог, находившийся в польско-татарской армии во время похода в середине 17 в. на Левобережную Украину, сообщает:
«Татары перерезали горло всем старикам свыше шестидесяти лет, по возрасту неспособным к работе. Сорокалетние сохранены для галер, молодые мальчики — для их наслаждений, девушки и женщины — для продолжения их рода и продажи затем. Раздел пленных между ними был произведен поровну, и они бросали жребий при различиях возраста, чтобы никто не имел права жаловаться, что ему достались существа старые вместо молодых. К их чести я могу сказать, что они не были скупы в своей добыче, и их крайняя вежливость предлагала ее в пользование всем, кто к ним заходил».
Герцог не уточняет: принимал ли он сам эти «крайне вежливые» предложения, и каких из предложенных ему христианских «существ» — он использовал.
Не ясно так же, обладали ли попки юных украинцев какой-то особой привлекательностью для крымчаков в части «для их наслаждений». А вот блестящая разноплемённая знать в Константинополе-Стамбуле того времени явно предпочитала поляков и украинцев русским. «Ибо московиты угрюмы и склонны к побегу».
Однако реализация этой национальной особенности — «склонны к побегу» — не обеспечивала беглецу благостного возвращения: на Руси таких не любили.
Начиная с самого первого договора с Византией, русские князья всегда принимают на себя обязательства выдавать беглых рабов. Сходные обязательства исполняли русские власти и в отношении Золотой Орды.
Несколько столетий русский человек, сумевший сбежать из чужеземной неволи, воспринимался на Руси не как герой, а как преступник, враг властей и дичь для охоты.
Власти были правы: человек, прошедший ад на византийских или турецких галерах и сумевший оттуда вырваться, уже не боялся ни земных властей, ни мук загробных.
Один из наиболее известных «московитов», прошедших этим путём — Иван Исаевич Болотников. Бывший холоп князя Телятевского сумел освободиться и вернуться. И — поднял восстание.
Ключевский даёт обобщение набегам степняков:
«В продолжение XVI в. из года в год тысячи пограничного населения пропадали для страны, а десятки тысяч лучшего народа страны выступали на южную границу, чтобы прикрыть от плена и разорения обывателей центральных областей. Если представить себе, сколько времени и сил материальных и духовных гибло в этой однообразной и грубой, мучительной погоне за лукавым степным хищником, едва ли кто спросит, что делали люди Восточной Европы, когда Европа Западная достигала своих успехов в промышленности и торговле, в общежитии, в науках и искусствах».
Ключевский говорит о 16 в., приведённые выше цитаты — о 17-м. Однако начинать надо, вероятно, с 7-го, с тех времён, когда авары-обры покорили дулебов и завели привычку, въезжая в земли этого племени, выпрягать из повозок своих лошадей, заменяя их молодыми женщинами и девушками из славянок.
Тысячу лет история России представляет собой историю заповедника для охоты на рабов. Формы обустройства этих «охотничьих угодий» менялись: на смену Домонгольской «Святой Руси» пришли Московское и Литовское Великие княжества, Царство Московское и Речь Посполитая. Но прекратить этот степной бизнес смогла только Российская Империя. Сначала на своих южных границах. Потом подобрав под себя и других страдальцев от этой напасти: Украину, Черкесию, Молдавию. Присоединив Крым и уничтожив, распахав саму Степь, Дикое Поле.
Пожалуй, ни один народ в мире, кроме китайцев, не переживал столь долгого и сильного кровопускания в своей истории.
Половцы и татары использовали сходные тактические, технологические, организационные, даже — географические решения. Одинаково ходили по одним и тем же путям за одним и тем же товаром — двуногой русской скотиной.
Вот такую, рядную, вязку полона, «самару» на ровном льду широкой Десны я и увидел сегодня. Увидел, но не понял. Теперь хоть знать буду.
Ивашко, тяжело отдуваясь, остановил лошадей перед спуском в небольшую лощину. От лошадей валил пар, от Ивашки и подошедшего к нам Ноготка — тоже.
— Заморился? Давай я вперёд пойду.
— Погодь. Вона сосна раздвоенная. А напротив её… Не видать отсюда. Постойте-ка. Надо глянуть.
Ивашко, проваливаясь в снег чуть не по пояс, двинулся по лощине в сторону.
— Что скажешь, Ноготок? Будет погоня?
— Да кто ж знает? Должна быть. След-то вон какой. Чарджи лук не выпускает.
Вернувшийся довольный Ивашко сообщил:
— Всё, поворачиваем туда. Я эти места уже знаю. Вон туда, вёрст десять, Сновянка моя будет.
— А… А тебя же там узнают!
— Не. Я в лесу подожду. Да и вообще — война же. Обойдётся.
Эти десять вёрст мы пробивались часа четыре. Хотя, возможно, вёрст было больше. Кто их в здешних лесах считал? Усталость, непрерывное напряжение сил на каждом шагу, забота о лошадях, как-то отодвинули тревогу о возможной погоне, о серых всадниках у нас за спиной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги В Бирюк - Волчата [СИ]](/books/1062081/v-biryuk-volchata-si.webp)