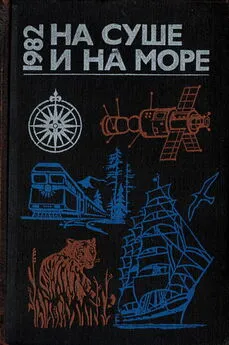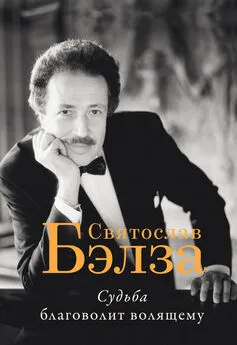Святослав Бэлза - На суше и на море - 1982
- Название:На суше и на море - 1982
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Святослав Бэлза - На суше и на море - 1982 краткое содержание
На суше и на море - 1982 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вокруг меня не было ни души, когда, отворив калитку, я вошел в небольшой садик, расположенный на самом краю холма и обнесенный чугунной сквозной решеткой, изображающей копья; здесь в беспорядке росли цветы, кое-где торчали, тоже в беспорядке, кусты смородины, в траве лежали пушки — вот и вся обстановка, среди которой возвышается мраморный обелиск, предназначенный увековечить память завоевателя Сибири. Эта ли беззаботная обстановка или тишина и безлюдие повлияли на меня, но только мне сделалось вдруг почему-то грустно и жутко, точно я стоял не перед монументом, но попал на чью-то одинокую могилу. И этот высокий холм, с которого видны пустынные тобольские улицы, и тихий запущенный садик, и решетка вокруг него с черными холодными копьями — все напоминало кладбище, а мраморный шпиц, не выражающий ничего определенного, — все равно как продажный кладбищенский памятник, готовый вещать своей надписью об Иване Ивановиче или о Петре Петровиче с одинаковым безразличием, так и этот, одинаково годный для Ермака и для Сусанина и для кого угодно, — возвышался и светился на солнце, но говорил не столько о славе и подвигах, сколько об общей человеческой участи — смерти.
Может быть, не всегда бывает здесь так безлюдно; может быть, в этом саду гуляют горожане, резвятся дети, слышатся человеческие голоса, но в это время был я только один среди безмолвия и безлюдия. Отсюда, с холма, открывалась прекрасная картина на лежащий внизу город, и невольно, глядя на окрестные холмы и лощины, воображению рисовались старинные битвы, когда горсть храбрецов отнимала у татар целое царство и десятком выстрелов обращала в бегство многотысячную конницу, готовую растоптать копытами отважных пришельцев. «Стреляют огнем и громом, — в ужасе кричали про них татары, — и стрел не видно, но огонь их прожигает латы и убивает насмерть…»
Проходит в памяти ряд блестящих картин победы и славы; но вот сменяются они другой картиной: бурный Иртыш, ненастная осенняя ночь, перерезанные казаки и непобедимый Ермак, бросающийся в волны — в свою могилу…
Где, в самом деле, настоящая могила великого атамана? Труп его вытащили из Иртыша татары и во главе с побежденным царем Кучумом, наслаждаясь запоздалым мщением, шесть недель сряду пускали в Ермака стрелы. По словам летописцев, над трупом его летали стаями хищные птицы, но не смели его коснуться, и что страшные видения и сны заставили наконец татар схоронить атамана на Бегишевском кладбище, под кудрявою сосною. В день погребения они изжарили и съели будто бы 30 быков, а доспехи Ермаковы разделили между жрецами и князьями… В страшные сны напуганных дикарей еще можно верить, но далее летописцы грешат, уверяя, будто над могилою Ермака совершались многие чудеса: сиял яркий свет и пылал столб огненный, пока духовенство магометанское, испуганное их действием, не нашло способа скрыть эту могилу, — «ныне никому неизвестную», как говорит Карамзин…
На всех четырех сторонах обелиска вырезано сверху по золоченой ветви, а снизу начертаны объяснительные надписи; на одной из сторон его имеется дата «1581», что обозначает год вступления Ермака в Искер после знаменитой битвы с Маметкулом. В честь этого события, решившего покорение Сибири, в Тобольске установлен 26 октября местный праздник.
При имени Тобольской губернии невольно вспоминаются «решения и уложения» и все, что «на основании статьи такой-то» приводит сюда массу людей на известный срок. Здесь даже и грамотность пошла от ссыльных шведов, которые в 1713 г. завели здесь школу. Так как это были люди образованные — пленные офицеры, то и успех они имели огромный, и к ним присылали для обучения детей из отдаленных мест. Сюда сослали даже угличский колокол, копия которого находится в местном музее; в свое время этот колокол подвергся, как это ни странно, полному наказанию, как живой преступник, по всем правилам: его выдрали плетьми, оторвали ухо и закабалили в Сибирь. Носился слух, будто изгнанник-колокол не достиг места своего заточения и при перевозке утонул не то в Тоболе, не то в Иртыше и вместо настоящего преступника привезли в ссылку поддельный. Как бы то ни было, но ссыльный колокол находился в Тобольске 300 лет, и только года два или три назад его «простили» и вернули в Углич.
По народной молве, это был первый ссыльный; с его «легкой руки», если можно так выразиться про колокол, началась сюда ссылка и людей; теперь его увезли обратно и, следуя народному поверью, можно надеяться, что Тобольск не станет более пополняться преступниками, а будет предоставлен мирному просвещению.

Город стоит во главе такой обширной губернии, что если Германию и Австрию, взятые вместе, сравнить с нею по пространству, то Тобольская губерния окажется несколько попросторнее. Зато народонаселения в ней едва-едва наберется полтора миллиона, причем статистика свидетельствует о недостатке в женщинах: по губернии на 100 мужчин приходится только 96 женщин, а в городах и того меньше — 88. Однако именно с женщинами и приходится считаться обществу трезвости, хотя в сущности и женщины, и общество трезвости борются против одного и того же — против кабацкой водки, разница только во взглядах. Общество на пагубу водке устраивает чайные с читальнями и туманными картинами, а женщины гонят (из ревности мужей к кабакам) так называемую самосидку, которая за крепость и едкость вкуса особенно ценится и даже предпочитается кабацкой водке. Конечно, это домашнее винокурение преследуется, но самосидку гонят чуть не в каждом селе, преимущественно женщины, где-нибудь в хлеву, в лесу, на так называемых каштаках. Большею частью ее гонят зимой перед праздниками, и у кого нет своих приборов, тот отдает муку мастерице с платою за ведро водки 25–30 коп. Из пуда муки выходит около четверти водки. Самосидка, несмотря на свою незаконность, все-таки удерживает «слабых мужей» от шатания по кабакам.
На высоком холмистом берегу Иртыша, подобно кремлю, возвышаются белые каменные постройки присутственных мест, собор, колокольни и башенки старинной ограды; здесь же находится тюрьма и музей, а собственно «обывательский» город раскинулся в низине, у подошвы этих холмов, с незатейливыми постройками и тихими улицами, выстланными досками. Проезжая по этим деревянным мостовым, я то и дело встречал вывески с четкой надписью: «Раскурка табака»; такие вывески встречались обыкновенно возле трактиров, на плохоньких дощатых террасах. Сначала я думал, что здесь торгуют каким-нибудь особенным табаком или по крайней мере существует для народа раздробительная продажа вроде того, что за грош предлагается выкурить трубку, но оказалось вовсе не то. В городе курить вообще на улицах запрещено, и для этого отведены места на трухлявых трактирных террасах, именно там, где обозначена эта «раскурка». Вероятно, такое распоряжение сделано в видах безопасности, потому что судьба издавна преследует Тобольск пожарами: в 1643 г., будучи еще не городом, а только острогом, он сгорел, но вновь построился и вновь сгорел. Наконец, когда город уже разросся, случился опять пожар в 1788 г., когда сгорел монастырь с семинарией, 9 церквей и более тысячи обывательских домов. Даже накануне моего приезда случился пожар, немаловажный по своим последствиям: сгорело временное помещение губернского суда со многими делами и решениями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: