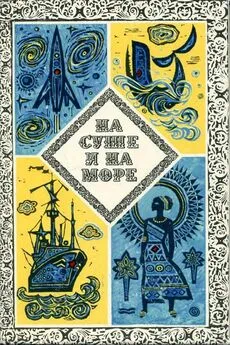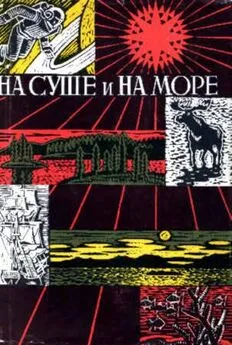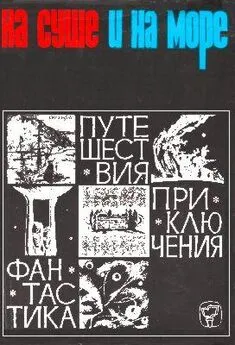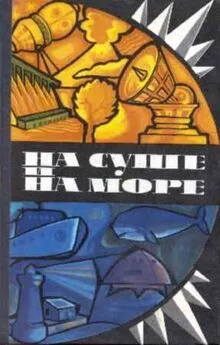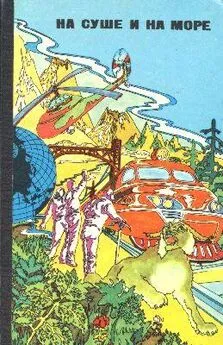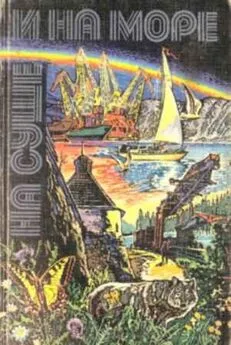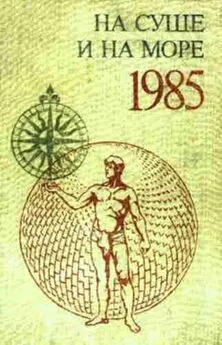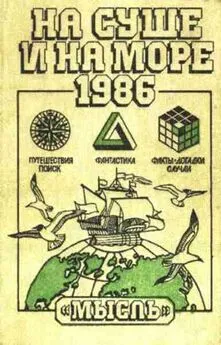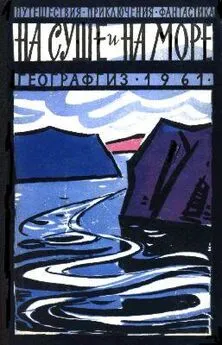Николай Димчевский - На суше и на море. 1973. Выпуск 13
- Название:На суше и на море. 1973. Выпуск 13
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1973
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Димчевский - На суше и на море. 1973. Выпуск 13 краткое содержание
В сборнике публикуются приключенческие и историко-географические повести, рассказы и очерки о людях, природе и городах нашей Родины и зарубежных стран, о различных путешествиях и исследованиях, зарисовки из жизни животного мира, фантастические рассказы советских и зарубежных авторов. В разделе «Факты. Догадки. Случаи…» помещены научно-популярные статьи и очерки о жизни животных, о магнитном поле Земли и истории маяков.
На суше и на море. 1973. Выпуск 13 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Впереди — деревня Нюхча, которую я жду с особым нетерпением. Здесь работала с экспедицией ленинградский диалектолог Галина Яковлевна Симина, она и посоветовала мне познакомиться с «бабой Дотей» — Феовдотьей Александровной Меньшиной. Прошлым летом я записывал местный говор, старинный свадебный обряд, и предложение диалектолога было как нельзя кстати.
Что такое собиратель — этнограф или диалектолог? Это своего рода Шерлок Холмс от науки. Он должен уметь разжечь костер разговора, уметь слушать, задавать вопросы, вроде бы играючи, выуживать у собеседника все, что его интересует… Не знаю, удовлетворял ли я тогда этим требованиям, но работалось мне легко. Материалы собирались быстро и в большом количестве. Наверное, в этом были «повинны» разговорчивые пинежские старухи.
Воспоминания о свадьбе были настолько живы, будто это происходило вчера. Вначале я думал, что меня разыгрывают: трудно упомнить, да еще в мельчайших подробностях, событие более чем полувековой давности. К тому же собеседницы мои не отличались особой памятливостью. Рассказывая о житье-бытье, они не слишком строго придерживались хронологии, иногда путали даты, передвигая их по собственному усмотрению. Но когда речь заходила о свадьбе, склероз отступал.
Удивительны законы памяти. Пинежская бабушка могла не помнить многих событий в своей жизни, но то, что ее свадьба игралась на Ильин день в тысяча девятьсот тринадцатом году, и что одели ее в синий парчовый полушубочек с узорами, и что перед отъездом к венцу брат сказал: «Молись да смейся. Бог веселых любит», и что за свадебным столом она сидела не подняв головы, как каменная, и что потом разразилась гроза, и гости высыпали на улицу плясать, — это она помнила твердо и могла рассказывать об этом часами.
Мне, наверное, повезло на таких бабушек. Нравом они веселые, расторопные, на язык колкие и озорные. В этом я убедился довольно быстро. На мой вопрос, понравился ли ей жених, когда она увидела его впервые, одна шустрая бабуся ответила:
— А то нет?! Нос крючком, голова тычком, а на рябом рыле горох молотили…
Седобородый кряжистый дед — «жених» — только крякнул, услышав эти слова, и в сильном неудовольствии вышел из избы.
В разговорах с бабушками и заключалась моя работа. Я незаметно пускал магнитофон и, вовремя «подбрасывая» вопросы, записывал то, что меня интересовало. Люди вскоре забывали, что их рассказ записывался на пленку, и вели себя естественно и непринужденно.
Приехав в Нюхчу, я зашел по адресу, указанному Галиной Яковлевной Симиной… В темном углу, среди почетных грамот и фотографий внуков висела икона в тусклом серебряном окладе. а под иконой сидела суровая старуха со штопкой в руках, и я сразу догадался, что это и есть баба Дотя. У нее было красивое, «гладкое» лицо, царственная осанка, горделивая северная стать.
Однако разговор наш не клеился. Феовдотья Александровна отвечала на вопросы односложно, даже сердито, рассеянно поглядывала в окно, думая о чем-то своем, далеком.
— Как жила-то? Да всяко…
— А именно?
— Дак я и говорю — всяко…
Из вежливости спросила, где я ночую. А узнав, что мы плывем на плоту и там же. в палатке, спим, вдруг забеспокоилась.
— Ночи-ти холодные. Зубы, небось, ходуном ходят.
И вынесла мне старенький полушубок из овчины. В тихих голубых глазах бабы Доти оттаяли льдинки, разгладились морщины. И начался разговор. Часть этого разговора, пока не кончилась пленка, я записал на магнитофон. Вот он.
— Нужно жила, родимое мое, нужно. Хозяин был худой, немочливый. Все делала — большинничала, на охоту хаживала, сынов ростила. Ой, да мне уж и не сказать!
— Когда вы охотились, в какие годы?
— Дак в войну и охотилась. В войну! Сына в войну отвела — и охотилась… Худо было тоды, худо! Вот то и заставило меня ходити и промышляти.
— А вы с детства умели стрелять?
— Нет. Я девкой не знала этого. Отец — охотник был у меня. У нас вообще каждый охотник. Настанет сентябрь, дак уж походят тамочки в лес. Силышка будут сторожить, рябков ловить, чухарей.
— На какого зверя вы чаще всего ходили?
— Все боле белка. И эта… ой, говорить не могу… выдра была, рябки. Я и медведя добывала — вот как во дак ведь!
— Вы, женщина?!
— Да, да, женщина. Сапогами раз премировали, а другой раз пятьсот рублей денег дали. Чего не было?! Десять лет в лесу лешакалась, все-то знаю. Хошь в мешке занеси в лес-от, так выйду, не заблужусь. Сына малого, с дробовку величиной был, тоже к охоте приучала.
— Как же вы с медведем-то встретились?
— Дак Бобко-то и навел. Злющий пес, ако бес. Зачул он берлогу — и давай лаять. Лаял, лаял, пока медведя не поднял… У-у-у, страшила! Завидел меня, медведь-от, ну лапами снег загребать и в меня кидать. Вот ведь как! И плюется, плюется… Уйти бы надо, думаю, на что мне медведь? А Бобко все лает, лает — не успокоится. У него уж медвежья шерсть в роте, у пса-то. Кабы не пес-от, разошлись мы по-мирному…
У меня дробовка была с собой, шестнадцатый калибр. Засадила я пулю, а сама задом, задом. И Бобку зову. Может, образумится, может, бросит зверя? А медведь-от как хватит его, как рехнет — дак хвоя посыпалась… Тут уж из меня весь страх вышел, рука твердая стала — не промахнусь. Одним выстрелом порешила!
— А Бобко жив остался?
— Живой! Отлежался пес-от, отъелся, снова на охоту бегал.
— Баба Дотя, а когда вы замуж выходили?
— Замуж?.. Ох, топеря ума-то — полуума у меня нет, родимое мое. Мне уж восемьдесят два — вот как во дак ведь. И голова болит и болит. Пошто одна голова-то болит, пошто это болит-то? Ноги-ти не болят. И чего ей ради болеть? Я ведь топеря на пенсии. На пенсии, родимое мое. Однако даром хлеб, не ем: я и по губки схожу, коли надо, и корову подою, и по дому что сделаю… Ой, говорить не могу, как не могу!..
— Да вы хорошо говорите, баба Дотя!
— Лонись с Галиной-то хорошо я говорила, хорошо: песни пела, старины сказывала. Я много старин-то знаю, как не знать-то!.. Она и на карточку меня сымала. А вот не пришла, карточка-то.
— Может, вы к окну сядете? Здесь светлее, я вас и сфотографирую…
— Ой, да я куды хошь сяду, родимое мое, куды хошь… Чего ты молочко-то не пьешь? Пей, пей, молочко свежее! А может, чаю поставить? Так я мигом…
На этот раз бабу Дотю я застал на огороде. Она не сразу признала меня: ее голубые, почти выцветшие глаза долго блуждали по моему лицу, одежде. Наконец она вспомнила.
— А, списыватель!
Совсем состарилась баба Дотя. В ее походке, прежде статной и величавой, проступили черты старческой немощи. Заметно спал голос, она приоглохла и приослепла.
— Ох, голова болит, родимое ты мое… Пора бы закругляться, да смертушко не идет.
Я отдал бабе Доте журнал, который берег специально для нее.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: