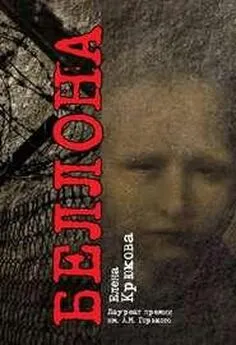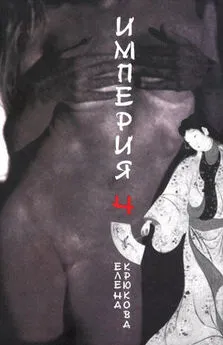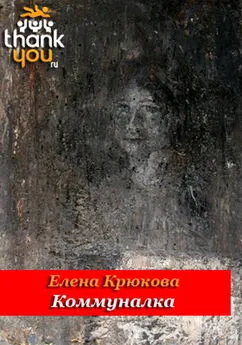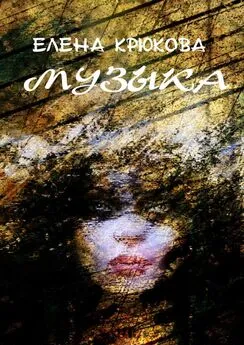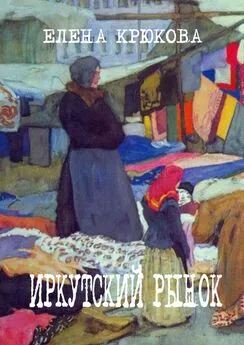Елена Крюкова - Беллона
- Название:Беллона
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Бегемот
- Год:2014
- Город:Нижний Новгород
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Крюкова - Беллона краткое содержание
Война глазами детей. Так можно определить объемное пространство нового романа Елены Крюковой, где через призму детских судеб просматриваются трагедии, ошибки, отчаяние, вражда, победы и боль взрослого мира. "Беллона" - полотно рембрандтовских светотеней, контрастное, эмоционально плотное. Его можно было бы сопоставить с "Капричос" Гойи, если бы не узнаваемо русская широта в изображении батальных сцен и пронзительность лирических, интимных эпизодов. Взрослые и дети - сюжетное и образное "коромысло" книги. Вторая мировая война увидена необычно, стереоскопически, с разных сторон, не только со стороны воюющего СССР. Немцы, итальянцы, евреи, поляки, украинцы, белорусы, англичане - народы Европы внесли свою лепту страдания в богатство будущей, жертвенно завоеванной радости. Любовью искуплено многое, если не все. Двойра Цукерберг и Гюнтер Вегелер, Юрий Макаров и Марыся, итальянка Николетти, надзирательница в концлагере, и мальчик-узник Лео, ставший ей сыном, - все это грани любви. И по острой грани войны и любви идем мы - сейчас и всегда.
Беллона - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
- Дочка!
По кипятку я побежала к тебе. Ты уже упала со стула. Голова твоя лежала на половике, а коски вымокли в кипятке. Я выхватила тебя из-под катящейся дикой воды; ты не обварила ни щечки, ни пальчики. Милые, вечно рисующие -- на бумаге, на песке, в воздухе -- пальцы твои.
Я прижала тебя к груди, к животу. Еле держала. Ты была уже тяжеленькая. Тебе уже исполнилось двенадцать. Папа смеялся: двенадцать -- счастливое число! Двенадцать часов, двенадцать апостолов... двенадцать -- месяцев... двенадцать еще чего-то...
- Доченька, что с тобой?!
Твоя головка клонилась с моего плеча -- вниз, все вниз и вниз. Вымокший колонковый хвост косы кисточкой щекотал мне руку. Я целовала твою смуглую щеку с тремя кучно сидящими родинками, твою вздернутую губку, твою черную челку, твои закатившиеся косые глазенки. Зверенок мой! Ежонок мой! Тарбаганчик!
- Дима!
Мой голос бился и плыл зубастой, пойманной на блесну щукой отдельно от меня. Муж выскочил из спальни. Он вернулся из своей последней экспедиции на Вилюй. Они нашли на Вилюе алмазы. Я шутила: почему вы не выловили из Вилюя золото Колчака!
Белые глаза Никодима. Белые белки Ники. Белый твой фартучек, дочка -- ты так сидела и рисовала в школьной форме, не сняла ее, так, ногу под ногу подвернув, уютно подложив под тощенький, как у меня, балетный задик, приоткрыв рот, тяжело и быстро и хрипло дыша -- ты так всегда дышала, когда рисовала, - ты водила, и водила, и царапала карандашом по листу, и под ударами грифеля гнулся планшет, и откидывала ты голову назад и вбок, озирая то, что рождалось у тебя под пальцами; а рождалось то, чего ты не видела никогда раньше, не слышала, не знала, не любила, и ненавидеть не пришлось.
Белый эмалированный чайник, на боку лежащий, пустой.
Вытекли боль и ярость.
- Боже мой!
- Дима, ноль три...
Черная трубка, черный телефон, черный шнур.
Я глядела, как мой муж размахивается и швыряет черный череп телефона об стену.
Отзвучали тусклым безумным эхом рояльные золотые струны.
- Отключили линию! С утра! Ремонт!
- К соседям беги!
- Дура, у соседей же тоже...
- На улицу! Лови машину!
Как был, в пижаме полосатой, поскакал. Я рванула балконную дверь. Снег, шел медленный и сонный снег, он чертил сонные белые полосы сверху вниз, с неба на землю, а потом острый белый карандаш вздрагивал, и по серой, по черной бумаге вел линию вверх, все вверх и вверх, с земли на небо.
Так белым, серебряным была заштрихована вся нелепая черная не нужная никому земля.
Так нарисовала на черном, гуашью подмалеванном ватмане ты, моя дочь.
Прежде чем умереть.
Я держала тебя на руках, а Никодим убежал ловить машину, любую, все равно: грузовик, самосвал, фуру, он мог и трамвай остановить, я знала, - а глаза мои упрямо и преступно косили на твой неоконченный рисунок.
Что там? Неужели мать, у которой умирает, а может, уже умерла дочь, так любопытна?
Зрачки прокалывали, зрачки змеились, зрачки ползли и вспыхивали. Зренье еще служило мне, и я тогда была ведь еще не старуха; так зачем я так подслеповато щурилась, зачем собирала собачьи складки на лбу, пытаясь разглядеть и запомнить?
Хлопает дверь в подъезде, внизу. Муж поймал машину, сунул деньги в мокрую руку шофера, много денег, и прорычал: "Жди!"
Зрачки обнимают черный лист, по нему вкось идет сумасшедший, веселый белый снег.
И за окном, и за балконной распахнутой дверью он тоже идет.
На рисунке черное небо. Белая стена. Ржавая труба. Черный дым из трубы.
Худая как палка женщина и девочка, у которой насквозь светятся ребра, крепко обнимаются. Покрывают последними поцелуями друг друга.
В открытую черную дверь тянутся, тянутся белые голые тела. Люди идут. Ноги их идут. Ноги идут. Идут.
Куда идут? Они идут в смерть.
А может, смерть -- счастье для того, кто устал жить?
Мама, шепчет дочка женщине, мама, ты только не бойся, они нас до конца не убьют, что-то ведь останется после нас, что-то будет, ведь что-то, что-то наше, живое, навсегда, дай я вытру слезки твои, не надо так, мы просто будем с тобой очень крепко держаться за руки, очень крепко, я знаю, они все врут про то, что это помывка, это не баня, там пускают газ, я знаю, так ты вдохни сразу глубоко, очень глубоко, и мы просто уснем, слышишь, уснем, а потом проснемся в раю, ты же сама учила меня: молись, и ты будешь в раю!.. и вот я все молюсь, молюсь, а вместо рая будет черный дым, и мы с ним улетим, но зато какая воля, простор какой, и мороз вместо слез, и звезды, и деревья внизу, и белые поля, и люди маленькие, мышки или жучки, лиц не различить, взрослые или детки, с высоты не понять, мамочка, не плачь, мамочка, идем, мамочка, зачем, мамочка!.. смотри!
Я посмотрела на тебя, доченька моя. На твое личико, тебе в глазки. Глаза уже не видели, лицо посинело.
- Дима, где ты, - медленно и беззвучно сказали мои деревянные губы.
Когда в гостиную вбежали шофер, сосед и муж, я так и стояла с тобой на руках. Голова твоя свисала вниз. Ноги свисали. Ты вся была уже очень тяжелая, будто бы я не девочку мою, а мешок с сахаром или солью держала; и я видела -- не бьется синяя, тщательно прорисованная остро заточенным синим карандашом извилистая жилка на твоей тощей гусиной балетной шейке.
- Ажыкмаа! Давай ее!
Папа выхватил тебя у меня из рук, грубо отнял, навсегда.
Я не успела ни схватиться за тебя, ни остановить время.
Твои ноги мазнули по выгибу черного рояльного бока.
Мужики грубо, громко затопали вниз по лестнице тяжелыми грязными башмаками; я нелепо, беспомощно ринулась за ними, взмахивая руками, как в моем знаменитом на весь Кызыл па-де-де из балета "Бахчисарайский фонтан". Кызыл, как давно мы в тебе жили. В жизни иной. Мы выбежали в грязный вечерний двор, и это была Москва. Мы ехали по широким как море проспектам и узким как ущелья улицам, и это была Москва. Мы кричали в приемном покое больницы: "Скорее! У нас дочь умирает!" - а нам навстречу шел развалистой павлиньей походкой дежурный толстый врач, и в одной руке держал бутерброд с копченой колбасой, в другой початую бутылку минералки, и это была Москва. И я была мертвая забытая балерина, а муж мой знаменитый столичный геолог, и это была Москва.
И я глядела, как дочери моей прокалывают руку толстой иглой, и кладут на узкую, как долбленка, каталку, и везут, увозят навсегда, и грохочут колеса по коридору, а я бегу, растрепанная, следом, и, как каталка, грохочу костями и сердцем, и все вокруг грохочет, и я хочу, чтобы ты жила, и я не хочу жить.
- Спасите ее! Прошу вас!
Каталка въезжает в закрашенные белым снегом двери. Там холодно. Там царство льда. Туда меня не пускают.
- Сюда нельзя!
Я сажусь у дверей операционной на пол, обхватываю острые колени руками и так сижу. Час. Два. Три.
Мне предлагают сесть. Меня пытаются поднять, ухватив под мышки. Меня хотят напоить горячим чаем. Я отворачиваю голову. Я не могу говорить. Я не могу двигаться. Я не могу жить. Моя дочь умирает!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: