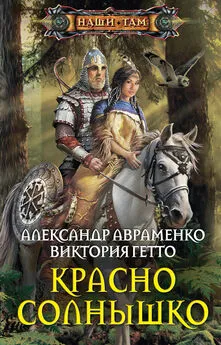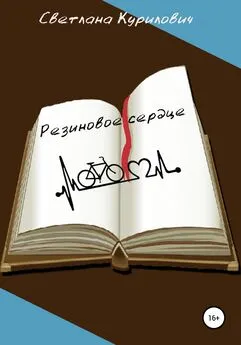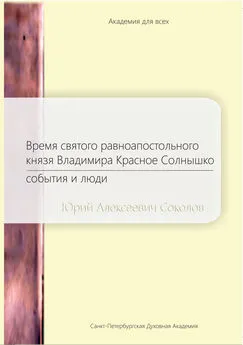Андрей Войницкий - Резиновое солнышко, пластмассовые тучки
- Название:Резиновое солнышко, пластмассовые тучки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Войницкий - Резиновое солнышко, пластмассовые тучки краткое содержание
Идея повести «Резиновое солнышко, пластмассовые тучки» возникла после массового расстрела учеников американской школы «Колумбина» в 1999 г. История трех подростков, которые объединяются, чтобы устроить кровавую баню в своей школе стала первой в Украине книгой о школьном насилии. По словам автора, «Резиновое солнышко, пластмассовые тучки» — не высокая литература с витиеватыми пассажами, а жесть как она есть, история о том, как город есть людей, хроника ада за углом свежевыкрашенного фасада. «Это четкая инструкция на тот черный день, когда вам придется придумать себе войну, погибнуть в ней и сгнить в братской могиле вместе со своим батальоном неудачников», — говорит Войницкий.
Резиновое солнышко, пластмассовые тучки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Конечно, — повторил Веточкин спокойно. — Разница в том, что я собираюсь из него вылезти. Спрячь тюбик, чтобы отчим не заметил.
Горик сунул тюбик в один карман, а кулечки — в другой.
Перед уходом он заглянул в цыплячьи глаза Веточкина и неумело попытался придать мучившему вопросу форму шутки:
— Слушай, — сказал Горик. — Ты вот говоришь, подтормаживаешь иногда… Типа забываешь все… Ты хоть имя мое еще не забыл?
Веточкин улыбнулся.
— Нет, Горик, не забыл.
Странно, подумал Горик. Откуда ты вообще его узнал? Или это я подтормаживаю?
Прощаясь, он назвал Веточкина Сергеем, а тот совсем не удивился, хотя сделал это Горик впервые.
Огромный стерильно-чистый зал. Сверкающе-белый. Зеркальный пол, гладкий, как каток; чуть качающиеся широкие средневековые люстры, похожие на зависшие под потолком НЛО. Тысячи свечей, и в каждой дрожит огонек.
Все танцуют вальс, глянцево нарядные, во фраках и жемчугах, обмахиваясь веерами и прикрывая полированные апельсиновые лица бисерными масками так, чтобы получались глаза. За проплывающими спинами мелькает тихо беснующийся оркестр — дирижер резко, словно в припадке, взмахивает палочкой, и музыка разбивается о стены, и никто, кроме него не понимает, что музыка — это ночной прибой. Иногда, сквозь мелькание черно-белых спин видно оранжево-апельсиновый затылок дирижера, слегка замаскированный париком. Дирижер грустит. Он хотел бы хоть раз услышать свою музыку, но у него нет ушей.
Здесь не бывает лиц. Ни глаз, ни ушей, ни рта, ни носа, ни хотя бы складочки — только оранжевые пористые апельсины, может даже и не объемные, а гладкие, как бумага. Музыканты не слышат, что они играют, а танцующие не видят своих партнеров, хотя время от времени подносят к пятнам маски и делают фальшивые оранжевые глаза с помощью лукаво сощуренных вырезов. Некто пробежался между ними когда-то, когда лица еще могли выражать эмоции, и капнул каждому на лоб оранжевым с острия пушистой кисточки, и размазал разноцветные глаза, нос и рот, и каждую складочку в густую темно-желтую палитру. Палитра застыла и теперь из бездонных декольте и удушливых, как виселица, фраков торчат одинаковые солнечные пятна, на которых можно нарисовать, что заблагорассудиться. Нарисуешь красную улыбку — и он всю жизнь будет смеяться, хотя, может, в душе он плачет. Но кто это заметит, если не нарисовали глаз, в которых блестели бы слезы? Да и кто заметит ту фальшивую улыбку, если глаз нету ни у кого — даже у часовых на дозорных вышках, с биноклями в потрескавшихся пальцах. Если глухие слушают музыку, а слепые под нее танцуют, то кого волнует, чем закончиться бал? Что измениться от того, чо кто-то сломает ногу?
А он — он танцует лучше всех, но нет того, кто бы смог это оценить. Люди с пятнами вместо лиц не знают даже, что они танцуют, не знают, что вообще происходит; они хотят лишь одного — выжить. Он смотрит в зал и не видит среди мечтающих выжить ни одного живого. Вальс — танец для двоих, но если нет достойного партнера, а станцевать хочется, то приходиться танцевать его в одиночку. Он, как и раньше, хватает пустоту за талию, вдыхает аромат ее пота и духов, и кружится с нею, задевая кедами то огрызок кирпича, то скрюченный почерневший чайник. Пустота — удивительная женщина. Она стерва; она бесит слабых равнодушных молчанием, но сильные слышат в этом молчании согласие. И она обычно не перебивает, а если и перебьет, то лишь за тем, чтобы напомнить, что ты съехал с катушек…
А потом в белоснежном зале с танцующими манекенами появляется кирпичное окно с обгоревшими остатками рамы — окно в предыдущий мир. За окном ночь, давно погасшие фонари и покатое шоссе, вымощенное брусчаткой. С четвертого этажа черные, словно горелые, липы кажутся маленькими-маленькими, но они все равно дотягиваются до неба острыми ветками — как дети тянутся за сладким в руках родителей — и вспаривают небо, и оно истекает кривыми молниями, робкими дождями и маленькими звездочками, которые с шипением тонут в лужах, превращаясь в бисер. Старое доброе небо, раненое, как советский солдат, и безнадежно забытое оккупантами земли… Дотянуться бы и заткнуть эту рану ладонью… чтобы оно выжило…
Неожиданно Горик понял, что стоит на подоконнику давно сгоревшей хрущевки и смотрит на брусчатку с четвертого этажа. В одной руке болтается пакет и с него капает вниз вязкий желтый клей. Другой рукой он держится за черный остаток рамы.
Стало страшно. Господи, подумал он, что я здесь делаю. Четвертый этаж — можно и не убиться, но ноги переломаешь точно.
Горик шустро слез с подоконника и уселся на что-то твердое. В бледном свете луны блестел скрюченный и уже пустой тюбик из-под клея. Капли клея затвердели на джинсах и рубашке; в дыхании растворился стойкий химический запах. Только что Горика заполняло набитое неуловимыми образами безмыслие — оно могло длиться десять минут, а могло и десять суток. Когда Горик пришел на Горку, было еще светло, и был целый тюбик, а сейчас ночь и тюбика нету. Горик почесал лицо (оно шелушилось засохшим клеем), закутался в рубаху (холодало) и закурил стрельнутую еще днем сигарету.
Потом он услышал шаги на лестнице. Глючит, подумал Горик с нарастающим ужасом, но сигарету все же затушил. Он прислушался. Кто-то походил, выругался, пнул какую-то жестянку и остановился. Возможно он тоже прислушиваясь. У Горика зашевелились волосы.
Потом кто-то тихо завыл. Это был жуткий звук, похожий на писк гигантского комара. Есть такие звуки, от которых вдоль позвоночника идет электрический разряд — например, когда скребут стекло ржавым гвоздем — и это был именно такой звук. Горика передернуло. Представился комар: огромный мутант с треснувшими прозрачными крыльями, пузыристыми мозаичными глазами, с блестящим носом-иглой. Звук повторился: уиии-иии… уииии-иии… Потом оно захрипело и заметалось: шаги ускорились и приближались . Оно металось на третьем этаже, подпрыгивало к черному потолку, тыкалось в поддающиеся стены, хотело вылететь, то и дело зацепляя кирпичи, ломая гладкий нос об остатки электрической плиты. Оно хрипело, разрывая метровый тонкий нос. Оно агонизировало. Надувшиеся глаза потрескались и осыпались под ноги, оно ослепло и обезумело, оно ринулось по лестнице на четвертый этаж.
За секунду до того, как оно заполнило дверной проем (верхняя перекладина затрещала и осыпалась золой), за секунду до этого Горик вжался в угол и закрыл лицо руками. Между толчками пульса в висках что-то по-свинячьему взвизгнуло и Горик понял, что это его собственный крик. Последний.
— Братишка… Ты живой, братишка?..
Горик открыл правый глаз. Проем заполняла высокая сутулая фигура. Двуногая, без метрового блестящего носа. Лицо скрыло черным; в бледном свете отчетливо сжимались и разжимались толстые волосатые пальцы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: